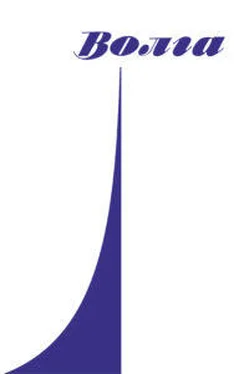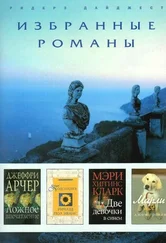— Цветы…
— Розы, угу. Только не красные.
— Арабия, знаю. Креп…
— Это на кой?
— Зеркала занавешивать. Всю стену. Так положено. Поминки, перевозка, землекопы… Ну, и минус еще один полный рабочий день. Стоял бы твой гроб в холле, весь в этих чертовых розах… и пол-Хобарта пришло бы прощаться! Келли, сукин ты сын, да ведь о тебе никто плохого слова не скажет!
— Не могу, — Келли простонал в полотенце, хрипло захохотал, — либо хорошо, либо ничего? Марч, да я ведь живой еще! Ладно. Вот что я тебе скажу: не умеешь ты устроить мне правильные похороны. Музыку забыл.
Марч развел руками.
— Симфонический оркестр? Можно прямо из Сиднейской оперы, для тебя не жаль…
— Размахнулся! Всего-навсего народный квартет.
— Это еще для чего?
— Плясать.
Марч выпучил глаза. Келли сел в постели, нашарил тапочки, объяснил с самым серьезным видом:
— Так у нас полагается, не слыхал разве? На поминках пляшут, чтобы покойник знал — и без него проживут, и шел бы себе искать яблоневые острова, а к живым бы почем зря не шлялся. Понятно?
Помощник отвернулся к окну.
— Да уж. Тогда пришлось бы еще святой воды приписать — тебя, я думаю, никакими танцами от «Сиды» не отвадить.
— Я тоже так думал, — Келли возвысил голос, заплескалась вода. — Но сдается, вы по мне уже в каком-то смысле отплясали.
Повесил полотенце через плечо, подошел к Марчу — тот все глядел в окно на дальние холмы.
— Да и остров яблоневый, получается — вот он.
Я боюсь, что ли, подумал Келли, выходя из джипа. Его все еще бросало в пот, а о платке не позаботился — вытер лицо рукавом свитера, так из-под руки и взглянул.
Такая же!
Нет. Совсем другая. То же нежное лицо, темные длинные глаза, золотые волосы, платье синее, и так же сидит в зеленой траве — листик к листику, но та, прежняя, в сумерках сияла бы тонко, подсвеченная изнутри, а эта — мерцала бархатисто, плотно. Келли запрокинул голову, вглядываясь, и понял — мастер написал ее заново, как картину, на толстой пластине полупрозрачного стекла.
И она была — с яблоками!
Конечно, он заметил это сразу — такое не пропустишь, но сначала старался понять, как сделано — и все-таки про яблоки не разгадал. Одно под рукой, другое в подоле, у колен, у ступней босых ее ног, и еще — над головой, над плечами бело-золотыми. А неразгаданное — вот: волнами краски, что ли, проступали на пунцово-красных, пурпурно-черных боках — глаза и губы, глаза и губы… Тянулись к ней, касались ее, смотрели на нее.
Это правда, подумал Келли, так и есть. Я сам такой. Это моя Сида, сестра моя — но, черт возьми, как он-то догадался?
Оглянулся — Марч стоял за спиной, помалкивал.
— Ну, с Богом, — Келли взялся за медную ручку двери. — Свои двести Ланс заработал, а остальное, — посмотрел еще раз наверх, — не его забота. Телефон-то тебе мастер оставил? Нет? Пойду, из сукиного сына вытряхну.
Ничего не складывалось как надо. Все рассыпалось. Сида, жизнь, память…
Сида новая, замечательная — поди-ка, разбей! Болел, выжил — а мог бы и в холодную землю лечь, «калифорнийская красавица» оказалась жестока. Память? Она и раньше-то ласковой не была, не привыкать…
И все же Келли подъезжал к мосту через Гордон в неизбывной тоске. Думал, до чего раздражает Австралия — весна осенью, дождливая сонная зима — летом. Думал о том, что вот картину Одудо («Партеногенетика», шла за двадцать, отдали за восемьдесят) — перехватили бойкие мальчики из «Боуи Гэллери», деньги вот целы, а на что они — деньги? Еще один клуб учинить? И с этим забот хватает, долги выплатил — хорошо, а новый? Ну, был бы кто — тогда куда ни шло, подарить любимому человеку… ничего себе подарочек, так ведь все равно некому… Никого нет — и поморщился привычно. Нет-нет-нет.
И — что это?
Сто раз проезжал тут, сто раз — отчего же теперь, на этом «нет-нет-нет» резануло: в линиях моста — скрещения стальных полос, острых, сверкающих на солнце лезвийной заточкой… в ритм попало, что ли?
Клетка. Настоящая стальная клетка. Не выйти, не вырваться, только резать…
Впереди и сзади потихоньку, на второй, ползли автомобили — мост был старый, узкий, никто бы не позволил Келли остановиться, перевести дух, сморгнуть наваждение. Он продолжал двигаться, бездумно… и глаза, слепнущие от тоски, шарящие по пятнам плакатов и лозунгов над шоссе и около, поймали вдруг…
Teacht.
Возвращение.
Нет, это вопросительный знак! То есть — Teach. Дом.
Откуда здесь… Почему гэльский? Как такое может быть?
Читать дальше