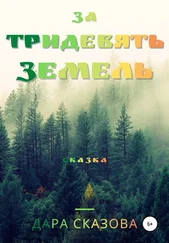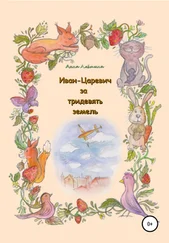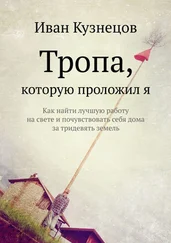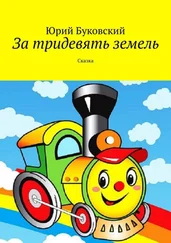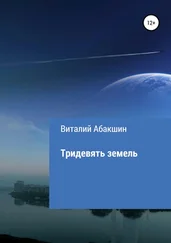Юридически процедура передачи законодательством не предусматривалась, поэтому всё равно пришлось составлять стандартный договор купли-продажи. Землю по предложению Вячеслава оценили в один рубль. Межевание провели быстро. До последней минуты Сидельникова терзала мысль, что как-то его обманывают, и когда Вячеслав поставил свою подпись на договоре, Сидельников извлек из бумажника рублевую монету, даже выбрал поновее, и настоял, чтобы Вячеслав принял её на глазах нотариуса и Федюшина. Но Вячеслав и не думал отказываться от рубля. Он взял монету, подержал её на ладони, как бы взвешивая, и опустил в карман джинсов.
Из Сараев Вячеслав поехал сразу в Москву. Он вёл машину и вспоминал, какие деревья растут на его земле. Чувство одиночества, терзавшее его в последние месяцы, уступило место целительному умиротворению. Никого не было вокруг, но теперь им владела неизвестно откуда появившаяся, неизвестно кем навеянная убеждённость, что он не один. Он совершенно не представлял себе, что ему делать с усадьбой, с разрушенной церковью, но отчего-то твёрдо знал, что выход найдётся, как будто кто-то, кто управлял бурей в Боке, обещал ему это.
Он ехал на закат; из-под свинцовой ширмы показалось солнце. Огромным багряным шаром нависало оно над горизонтом по левую руку от трассы. По мере того, как оно опускалось в груду сизых облаков, поджидавших его у земли, оно становилось всё больше и наливалось густой краской, и теперь, казалось, уже собственная тяжесть влекла его вниз.
Вся эта земля, несущаяся за стёклами, была ещё его – распаханная и нераспаханная, возделанная и невозделанная, заросшая костырём, со всеми своими реками, ручьями, зарывшимися в ржавую осоку, с этими голыми перелесками, с поломанной заморозками травой.
И когда он остановился заправить машину и шагал затекшими ногами к кассе, то с усмешкой подумал: "А что? У меня уже два рубля".
Конец августа две тысячи четырнадцатого года выдался неимоверно жарким. Зной калил и без того увядающую землю, и высохшая трава сделалась лысой и скользкой.
Ещё весной Вячеслав с Михаилом ездили на Моршанский деревообрабатывающий комбинат договариваться о материалах для крыши. Среди сложенного штабелями бруса, брёвен, рядов готовых туалетных кабинок бродили вялые, безучастные среднеазиаты, одетые, точно заключённые, в синие рабочие робы. Светленькая, как узбекская лепёшка, девушка проводила клиентов до начальственных дверей.
– Вы одна тут русская? – не удержался Михаил.
Девушка только вздохнула.
– Что у вас тут? – недоумённо спросил Михаил у директора, – пожилого краснолицего человека со старомодной массивной золотой печаткой на пальце. – Резервация какая-то. И у вас так? А мы думали, это только у нас. Местные-то что ж не идут?
– Хм, – отреагировал директор, привставая из-за стола и протягивая им для пожатия руку. – Впечатляет? Сейчас везде так. Я даже курсы обучения ввёл, лишь бы шли. Бесполезно. Зато как в городе объявление вывесят, что охранники в Москву нужны, так целая очередь выстраивается.
– Может, зарплата не устраивает? – предположил Вячеслав.
Директор помотал головой.
– Для наших мест у нас зарплата нормальная. Хотя какая она к чёрту нормальная? А я больше дать не могу. Сколько лет мы уж так живём? – спросил он сам себя. – Лет уж двадцать. Ну, двенадцать тясяч. Ну, хорошо, пятнадцать. Пусть. Много ты на них разъешься? По-божески-то так?
Постепенно от эмоций перешли к делу, посмотрели чертежи, сняли планы.
– Ну что, дать вам талибов-то? – предложил на прощанье директор.
– Да нет, спасибо, – ответил Вячеслав. – Что русскими руками строилось, то ими и восстановится. А то чёрт знает что получается.
– Это да, – согласно склонил голову директор и опять сунул для прощания свою крепкую руку.
До всего этого Михаил сделал ещё несколько попыток проверить истинность слов старика Чибисова. Как-то весной вместе с Вячеславом они даже ездили в Рязанский «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», но ничего не добились, хотя только потом Михаил осознал, что добиться ничего и не мог. Один из сотрудников этого учреждения был настолько любезен, что не затруднился приоткрыть перед любопытствующими методы своей работы. Владельца соловьёвской усадьбы определили по сохранившейся Уставной грамоте, заключённой капитаном 1-го ранга Воином Фёдоровичем Казнаковым со своими крестьянами после выхода Положения 19 февраля 1861 года, однако дальше следы терялись. Как-то не сразу до Михаила дошло, что даже если бы и нашлось что-то, что протянуло бы родовую нить Воина Фёдоровича ещё через несколько десятилетий, это никоим образом не могло ответить на вопрос, какое же отношение эти люди имели к нему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
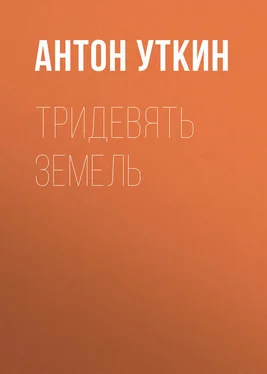

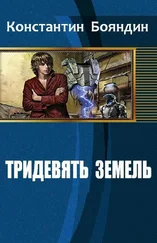

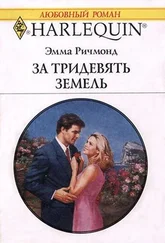
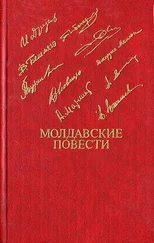
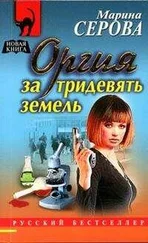
![Екатерина Мекачима - За тридевять земель [litres]](/books/385082/ekaterina-mekachima-za-tridevyat-zemel-litres-thumb.webp)