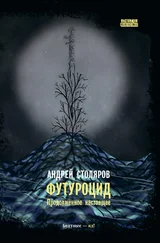Несколько в стороне, отъединенный, вероятно, возрастом и положением, стоял Д. А. Одинцов, согласно той же справке Аннет, – координатор Петербургского отделения Союза ученых. Вид у него был такой, будто он размышляет о фундаментальных основах современного бытия. И так же, несколько в стороне стояли Маша и Сергей Валентинович. Они ни о чем фундаментальном не размышляли – волнуясь, посматривали то друг на друга, то на меня. Маша время от времени нервно поправляла прическу, и тогда Сергей Валентинович, успокаивая, сжимал ей локоть.
Некоторая напряженность вообще чувствовалась. Разговор поэтому был путаный, вялый, спотыкающийся о паузы. Точно у людей, которые оказались вместе случайно и поэтому не могут найти подходящей темы.
Обсуждались последние предложения президента, связанные с переходом от выборов губернаторов к их фактическому назначению.
Мнения на сей счет разделились.
Кто-то считал, что введение этой системы означает существенное уменьшение гражданских прав и свобод: все-таки источник власти – народ, только он может решать, кому эту власть передать. А кто-то возражал, впрочем не слишком настойчиво, что источником власти в провинции давно уже стали региональные кланы, они озабочены только собственными интересами, и назначение губернаторов – просто способ избавиться от чрезмерного местничества. Мрачный юноша заметил на это, что мы все пока еще не граждане, а только подданные: чувствуем себя комфортно, лишь когда нами командуют. А женщина, похожая на звезду эстрады, ответила, что превращение подданных в граждан как раз и осуществляется через включение их в реальные демократические институты, другого способа нет, пока не набьем себе шишек, ничему не научимся.
Конец дискуссии положил отец Серафим. Он несколько опоздал, запыхался, по-видимому, последнюю часть пути шел быстрым шагом, и потому ответил с несвойственной ему резкостью, что власть – от бога, все остальное – постольку, поскольку этому соответствует. Что же касается данного предложения президента, то лично он ничего страшного здесь не видит: в США губернаторов избирают, а во Франции префектов провинций назначает правительство. И что, во Франции демократии меньше?
Спорить после этого стало не о чем. Все вдруг, не сговариваясь, потянулись в комнату для заседаний. Гелла порывисто встрепенулась и, вдохнув-выдохнув, быстро коснулась моей руки. Я, впрочем, особого волнения не испытывал. У меня было лишь обычное, чуть лихорадочное возбуждение, которое возникало всегда перед началом работы. Ни в какие мистические опасности я не верил. И тем не менее, когда мы расселись – строго соблюдая порядок, который был в прошлый раз, и когда я, заняв место в торце стола, внезапно оказался в фокусе глаз, взирающих на меня с тревогой и ожиданием, по сердцу пробежала струйка озноба.
Несмотря на жару, на гнет духоты, который уже начинал ощущаться.
Я чувствовал себя приговоренным к казни.
Собственно, ничего сверхъестественного от меня не требовалось. Согласно сценарию, разработанному Борисом, я должен был в качестве вступления произнести тот самый текст, которым уже открывались прошлые заседания Клуба. Текст, который произносили и Ромашин, и Злотников. Причем мне даже не нужно было повторять его слово в слово. Борис считал, что данном случае это значения не имеет. Злотников, начиная свое злосчастное заседание, вовсе не копировал речь предшественника. И Борис полагал, что можно придерживаться того же порядка.
Именно так я и сделал. Я начал с того, что существование властных элит – закономерно обусловленное явление. Общество уже с момента своего появления начало разделяться на управляющее меньшинство и управляемое большинство. По-другому, вероятно, нельзя. Прямая демократия, недолго существовавшая в Древней Греции, когда все граждане Афин собирались на площадь и коллективно принимали или отвергали какой-то закон, ушла в прошлое. Сейчас она невозможна. Мир стал слишком сложен. Им уже не может управлять дилетант, понятия не имеющий о механике социальных взаимодействий. К тому же большинство людей вовсе не стремится во власть. Их не привлекают мутные и опасные воды политики. Они с облегчением передают эти свои права кому-то другому.
Далее я коснулся функций элит. Если выделить самую суть, сказал я, то их всего две: во-первых, сохранение того, что наработано обществом, – это традиционализм, стабилизационная функция, функция накопления прикладного и философского позитива, а во-вторых, развитие, улучшение существующего – это инноватика, функция социальных преобразований. Причем, здесь, видимо, существует некий баланс, отклоняться от которого чрезвычайно опасно. Если преобладают традиции, общество впадает в застой, мы это видели в эпоху «развитого социализма». Если же главенствует инноватика, то есть преобразования идут слишком быстро, значит начинается революция, хаос, социальный разлом. Искусство управления, искусство устойчивого развития как раз и заключается в том, чтобы держаться внутри определенного интервала, не пересекать ни границу хаоса, ни границу застоя. Правда, как это осуществлять на практике – особый вопрос… Соответственно функциям идет и распределение страт: правящая элита, стремящаяся удержаться у власти, контрэлита (оппозиция то есть), стремящаяся к власти придти, антиэлита, творческая элита, оценивающая тех и других. Это концепция В. Парето, являющаяся, в свою очередь, эхом воззрений Макиавелли. История представляет собой циклы смены элит. Антиэлита к власти, как правило, не приходит. Разве что во времена бурных революционных преобразований.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

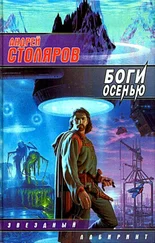
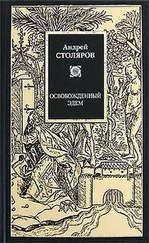

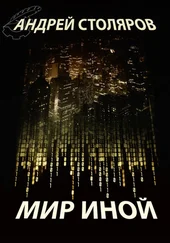
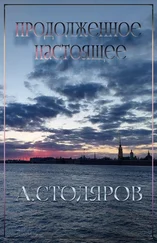
![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)