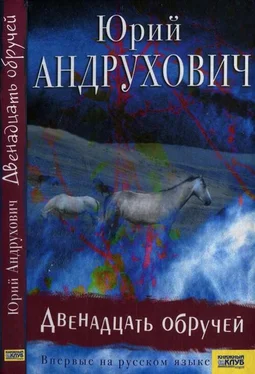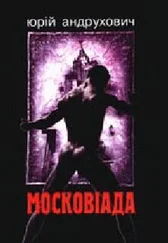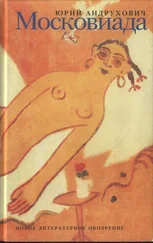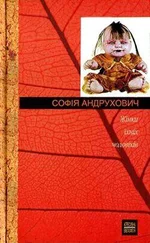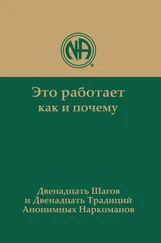Бесспорно, среди его воспоминаний должно найтись место для того теплого, чуть ли не горячего ветра, от которого отваливалась голова. Кроме того — для повсеместной и обвальной оттепели, звонкого стеканья, дуденья, капанья тысяч пульсов, расползшейся под ногами и в душе грязной снеговой каши. И, разумеется, там будет комната, в которую его привели — совершенно запущенная, с потеками талой воды на стенах и кусками отвалившейся серой штукатурки, с понаставленными там и сям ведрами и банками, которые время от времени выносились куда-то в коридор, а потом снова приносились назад уже порожними и расставлялись под водяными струйками с набухшего влагой потрескавшегося потолка. В своих воспоминаниях Артур Пепа будет сидеть в центре этой комнаты на табурете и умирать от собственного сердцебиения, к которому добавится тупая боль под ложечкой, подтверждение того, что встречный удар автоматным прикладом ему уж никак не пригрезился. Будут еще две полосы от наручников на запястьях — сначала бледные, они со временем набухнут кровью и покраснеют, начав исподтишка пульсировать в едином со звоном оттепели ритме.
Но даже если бы ничего этого не было, Артур Пепа все равно мог не сомневаться в том, что попал в жуткий переплет. Достаточно было этого кружения сначала одного, потом двух, а иной раз даже и трех силовиков в гражданском, они ходили вокруг его табурета, приближались, отдалялись, исчезали и снова заходили на очередные круги — но так, что в комнате всегда оставался хоть один кто-то, позже выяснилось, что как раз он-то и есть тут Первый, но пока Артур Пепа еще ничего такого не различал, настороженно вслушиваясь в раскачивание своего, уже достаточно узнаваемого, сердечно-сосудистого трепета. Ему всего больше хотелось встать с табурета и сесть прямо на пол — в случае очередного провала в никуда так было бы намного безопасней. Кроме того, ему хотелось просто полежать на этом влажном дощатом полу навзничь — он глядел бы в потолок, ловил бы ртом грязные водяные струйки, и, возможно, через какой-нибудь час-другой его бы попустило; однако о подобном он мог только мечтать — где это видано, чтобы допрашиваемый лежал, а следователи ласково склоняли над ним головы, словно братья милосердия над мертвым героем!
Артур Пепа ясно понимал, что он тут допрашиваемый, это следовало в первую очередь из того, что от него требовали как можно больше ответов («ваша фамилия, имя и отчество?», «где проживаете?», «место работы?» — последний был во все времена самым ненавистным для него вопросом, ведь нет ничего глупее, чем в присутствии незнакомых чужих людей вслух называть себя поэтом — да что это за работа такая вообще и где ее место ?). Он использовал привычный прием — так себе, невинные хитрости, незначительная подтасовка фактов, все мы, в общем, писаки, поэтому назвался журналистом, что неминуемо привело к занудливо-нестерпимым выяснениям, «какой печатный орган вы представляете». Разламываемый изнутри все убыстряющейся разрушительной пульсацией, он что-то вяло пролопотал о сотрудничестве с Интернетом и радиостанциями, упомянул о статусе независимого корреспондента («независимый — это как, внештатный»?), ну вот, они сами нашли наилучшее слово — внештатный, так он и кивал головой на это внештатный, но ему не удалось воспользоваться даже минутным послаблением. Это было также невозможно, как нащупать спиной хоть какую-то опору — спинку, стену, земную твердь, хоть что-нибудь — нет, у табуреток нет спинок! То же и со следователями — они не позволяют ни на минуту перевести дух, особенно когда воздуха внутри остается все меньше. Это голова, понимал Пепа, это кислород, который не доходит куда следует, а им, разумеется, в этот момент сразу же хочется знать, какие именно темы и о чем, и сколько на тех радиостанциях теперь платят, и кем эти программы финансируются, и так далее — они, оказывается, могут сразу же все проверить — поэтому один из них куда-то ускользает, ловко протиснувшись меж двух водяных струй с потолка, но это там, где-то на самом краешке видимого Артуру пространства, ибо на переднем плане — этот, который, как позднее выяснилось, Первый, то есть его невыносимо близко наклоненная голова, вся в микроскопических порезах от бритья, и — «какова цель вашего приезда, что вы тут делаете?»
«Корчма „Луна“, — отвечает кто-то чужой из тела Артура. — Это такой пансионат. На Дзындзуле. Меня туда пригласили, и я там живу. Уже несколько дней. Что-то вроде конференции». Но тут же до Артура доходит, что тот чужой в его теле своими ответами его подставил, дурень, ибо на вопрос «какая конференция, тема, о чем, какого характера?» ему сообщить совершенно нечего — а и правда, как все это называлось, что там, черт побери, было в том приглашении? Голова Первого принимает к сведению его неадекватность («странная у вас конференция! сами даже не знаете, чем вы там занимаетесь!»); и разумеется, он не останавливается на достигнутом: «Кто еще пребывает с вами на Дзындзуле?» Артур медленно перечисляет, хотя ему постоянно кого-то не хватает, он в четвертый раз начинает сначала, приберегая Рому на самый конец, но они — и Первый, и Второй (этот как раз выскакивает у Артура из-за спины) дружно уцепились за австрийца: «Кто этот фотограф? Как давно вы знакомы?», а потом — уж вовсе внезапно — «Почему у вас голова забинтована?». Артур (или тот, чужой?) говорит что-то про поединок на мечах — и звучит это как последняя беспомощная чушь. «На мечах? — слышит Артур откуда-то от двери. — Вы собирались убить его мечом?» Ах, ну да, это вернулся Третий — и не просто, а с какой-то бумажкой — «Да нет, это было в шутку, мы, так сказать, дурачились — фехтовали на мечах» — с грехом пополам выдавливает из себя абсолютно несуразную отмазку Артур, на что Первый, вчитавшись в принесенную только что бумагу, возражает: «Такие уважаемые, широко известные люди — и дурачиться? Прибыли на конференцию, а сами — за мечи и фехтовать?» «Это была пьяная затея», — окончательно проваливает дело чужак в Артуре. «Вы много пьете? — ловит его на слове Первый. — Это вы некогда подписали вот это письмо?»
Читать дальше