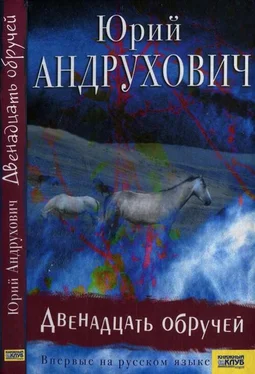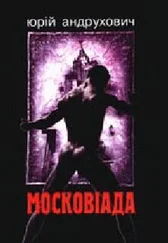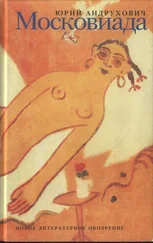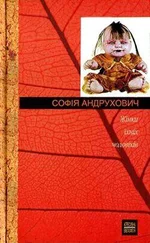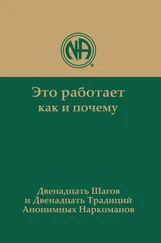«А нам?» — переспросил Шухер. Карлу-Йозефу этот Шухер с самого начала нравился меньше. Поэтому свое портмоне с тиснением «GSCHNA-A-ASS!!!» он отдал не ему, а Душману: «Вам». «Все бабки?» — тот сначала не понял. «Я вам даю», — твердо пояснил Карл-Йозеф. Душман раззявил рот и застыл в нерешительности, но Шухер был проворней: «Дает человек — бери. Шо глядишь как на вошь?» Душман забрал портмоне. Карл-Йозеф протянул руку в сторону Шухера. Он хотел получить свою проигранную бутылку. «Я тебе понесу, — успокоил Шухер. — Ты можешь разбить». Карл-Йозеф подумал, что тот прав. И вообще, почему бы не привести их обоих в пансионат? В любом случае будет с кем посидеть — даже если там все заснули.
«Далеко тебе?» — спросил Шухер. «На Дзындзул», — мотнул головой вверх Карл-Йозеф настолько резко, что очки чуть не соскочили. Они оба присвистнули. «Хуёвое место», — сказал Душман. «Море по колено», — возразил Шухер. Карл-Йозеф удивился, что даже он знает про море, которое тут было миллионы лет назад. «Да, моге», — подтвердил Карл-Йозеф и, собравшись с силами, поднялся. Он подумал про туалет и стал искать мутноватым взглядом тот самый коридор. Но Шухер прочитал его мысли и, тоже не совсем твердо поднимаясь, процедил: «На улице поссыш. Надо идти». « Why not? » — согласился Карл-Йозеф, вперевалку направляясь к выходу. Стоя в дверях, он оглянулся на стойку бара. Ему показалось, что хозяин крайне напряжен. Почему они так редко улыбаются? Карл-Йозеф махнул на прощание (хозяин даже не пошевельнулся) — и ступил в ночь.
Они шли друг за другом по дороге над Потоком: Душман впереди, в нескольких шагах от него Карл-Йозеф, последним брел, насвистывая что-то вроде «чётенада», Шухер. Его тянуло куда-то вбок, он часто останавливался, отставал, озирал лунную пустошь и думал, как бы нагреть этого лоховатого австралийца, чтобы все-таки не отдать бутылку.
Карл-Йозеф уже по дороге решил, что не станет задерживаться тут до воскресенья. Взойти на гору, выпить все до дна, упаковать Klamotten [108] Шмотки (нем.).
— и навсегда. Но тут он подумал о фото, ну да, он оставлял за собой право сохранить ее маленькую фотографию, это был банальный паспортный снимок, потому что сам он никогда — ни разу — не сфотографировал ее, неизвестно почему. Продираясь сквозь шум Потока и шум в своей голове, Карл-Йозеф крикнул в спину Душману: «Ты! Отдай!» Душман оглянулся и ничего не понял. «Мой… — наморщился Карл-Йозеф, лихорадочно вспоминая слово. — Я тебе дал!» Он подошел к Душману с протянутой рукой. «Ты что?» — осек его Душман. Карл-Йозеф наконец вспомнил слово: «Кашельйок!» Это было невозможно — в таком ужасном шуме, с болью в груди и в голове сформулировать длинную и нестерпимо сложную фразу о том, что там, в его портмоне, остается ее (кого — надо еще и это пояснять?!) фотография, он только заберет фотографию и отдаст все остальное, он подарил им те деньги, ему не нужны они, но он не может отдать им ту фотографию.
Его рука потянулась в карман к Душману, и тут он получил в лицо. Очки разбились с концами, резкая боль в переносице парализовала все, кроме ощущения ужасной несправедливости, тупого и дикого недоразумения, поэтому он вслепую ринулся вперед, поймал руками отвороты Душмановой куртки, но не устоял на ногах — Душман сперва поддался, а потом выскользнул, бездна снова качнулась ему навстречу («в дупель угыканный» — прошептал Карл-Йозеф, отгоняя беду, но поздно) — сзади уже подбегал Шухер, и его, Шухера, рука, утяжеленная темной бутылкой, взлетела на миг вверх и камнем ухнула на глупую и изболевшуюся голову иноземца еще раньше, чем тот зарылся всем телом в прибрежную гальку.
Не было уже ни сполохов, ни липкой ореховой жидкости вперемешку с кровью, ни обломков стекла, ни протяжного крика кого-то из двоих. А было безволие, было сползание отяжелевшего тела вниз, по камням, суковато-скользким ветвям, по хвое, шишкам, известковым зазубринам — и наконец воды Потока приняли в себя большую дунайскую рыбу с ее последней потаенной идеей больше не возвращаться.
«Никто из нас толком не знает, что такое жизнь. Но горше всего то, что мы точно также ничего не знаем и о смерти», — прочли друзья в одном из его писем.
Спустя многие годы Артур Пепа будет вспоминать этот день как один из самых долгих в его жизни. Кроме всего приключившегося, он и впрямь показался ему ужасно длинным. Разумеется, все это произойдет лишь в том случае, если Артур Пепа вообще доживет. Но если все-таки доживет, он непременно будет вспоминать.
Читать дальше