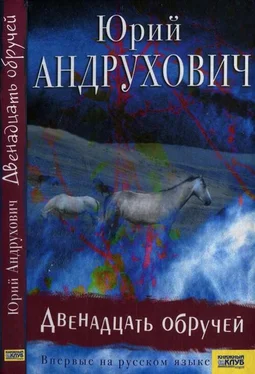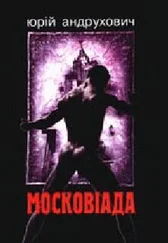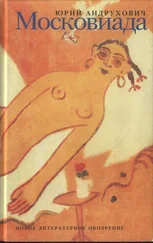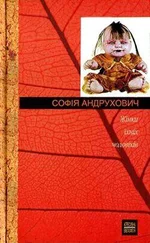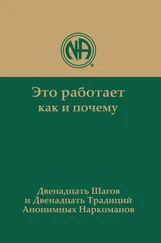В следующий раз он открыл глаза, когда компания уже шумно выходила из кнайпы, кто еще допивал, кто доцеловывался, именинницу вели под руки к двери, Карл-Йозеф успел увидеть грязные блевотные потеки на ее белом блузоне, на улице они еще какое-то время кричали, кто-то возвращался, доплачивал какие-то деньги хозяину, потом долго заводились всякие «джипы» да «нивы», а потом Карл-Йозеф положил измученную голову на стол.
Однако, прежде чем это сделать, он побрел мимо стойки, ловя на себе в основном осуждающие и насмешливые взгляды всех четверых членов семьи хозяев (был, правда, один сочувственно-жалостливый среди них) — итак, он побрел куда-то в заклетье (в какое-то закапекло) этого помещения, в какой-то коридор, где полагалось быть туалету. Только и успевая порывисто хвататься за стены, которые сходились и расходились, потолок с единственной тусклой лампочкой падал вниз, пол вставал дыбом и ехал на него, он наконец толкнул ногой дверь с вырванным и обвисшим замком и ступил внутрь, где не оказалось никакого унитаза, лишь обмазанная цементом дыра с двумя, также цементированными следами в форме ступней сорок третьего размера; но не это было главным — Карл-Йозеф увидел сначала этот голый зад, спущенные ниже колен спортивные штаны, ритмичные толчки бедер, дальше виднелось наклоненное вперед женское тело, отвечавшее толчкам в том же ритме, с руками, спазматически сжатыми на ребрах калорифера. «Кто тут?» — ойкнула она, вертя головой. «Подожди, подожди», — ответило с нетерпеливыми придыханиями мужское тело и, пока Карл-Йозеф бурно изливал из себя что-то темное в цементированную дыру (ему нравилось держать в руках свой такой массивный, такой большой, такой отяжелевший теперь член), они не переставали дергаться, вытискивая из себя всю свою животность. Но как только Карл-Йозеф окончил, мужской зад в последний раз напрягся и наконец замер. «Отак-о», — сказал хозяин зада, подтягивая штаны. «Теперь ты», — мотнул головой Карлу-Йозефу и, хлопнув его по плечу, вышел в коридор.
Девушка поднялась с колен и, развернувшись к Карлу-Йозефу вываленными из расхристанной сорочки грудями, села на калорифер. «Будешь?» — спросила она без малейшей интонации. Он приблизился к ней вплотную, и, хоть неоткуда было ему знать, что это уже последний такой подарок, он в остервенело жадном отчаянье кинулся ощупывать ее губами и пальцами, проваливаясь языком в ее водочную ротовую полость, будто и вправду все это было для него в последний раз. Девушка завозилась в его руках и развела ноги, впихивая его в себя. Он начал сползать вниз, до него вдруг дошло, какой он, честно говоря, уставший, вместе с этим своим огромным и никому не нужным членом, она, наверно, так все и поняла, потому что попустила узел — разомкнула замок своих ног у него за спиной и снова свела их вместе, гладя его бедную голову, точно так, как это случалось делать Роме в иные времена в иных обстоятельствах. Тогда он погрузился головой в ее колени и так забылся. Девушка неслышно для него освободилась и пропала.
И в эту минуту чья-то рука начала все настырней тормошить его за затылок. Карл-Йозеф, не поднимая головы, стряхивал ее с себя (таким образом демонстрируя Роме, что больше не нуждается в ее запоздалых нежностях), но Рома не отставала, ее большая и твердая ладонь была покрыта ужасно жесткой, грубой кожей, а пальцы были толстые и короткие, и тогда, вмиг перевалив за середину дистанции меж сном и явью в направлении последней, Карл-Йозеф сообразил, что это никакая не Рома, потому что ведь не может ее ладонь быть такой по-мужски сильной и неухоженной, да и все те кремы, что он ей дарил, где они, где их благодатный эффект?! Только тогда он наконец оторвал свою голову от липкой и холодной алюминиевой поверхности.
За его столиком сидели два лысых типа — те самые, конечно. Приблизительно одного возраста, где-то между тридцаткой и сороковкой, хотя в этой стране, как уже не однажды доводилось Карлу-Йозефу замечать, достаточно легко ошибиться, если судить о возрасте человека по его внешности. Так вот, внешность у обоих была не из лучших. И — самое главное — зачем эти кожаные кепки на головах?
Карл-Йозеф четко увидел все это (и кожаные кепки, и совершенно опухшие рожи, и в целом внешность ), как только надел свои, теперь уже дважды треснувшие, очки. Этого оказалось достаточно, чтобы один из них, с гнилым зубом посреди рта, сказал: «Слышь, земляк, по сто грамм возьми!» Карл-Йозеф молчал и смотрел на обоих сквозь перечеркнутые трещинами стекла. Они ему не нравились.
Читать дальше