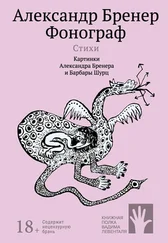Это означает, что Фаустов умел открыть мир в каждой наблюдаемой им вещи, как умеет ребёнок, способный самозабвенно играть и с ботинком, и со стулом, и с настольной лампой, и с окурком.
Красота является там, где есть любовь — любовь и воображение. Таков был скромный секрет Фаустова. Это и есть — виноградное мясо!
Чтобы Солнце стало прекрасным, его надо любить.
Чтобы трамвай стал прекрасен, его нужно увидеть под Солнцем.
Винсент Ван Гог всегда садился прямо под Солнце, чтобы видеть вещи в их красоте.
Но Альберт Фаустов не был Ван Гогом. Альберт был великим, но неизвестным художником.
И работ у него тоже было немного — как у Вермеера. Зато каждая заключала в себе мгновенно найденный образ — его виноградное мясо.
Это значит, что Фаустов умел смотреть на вещи и безошибочно находить их поэтическое место на свете.
Но он никогда этого не выпячивал. Никогда не паясничал, как Дали или Пикассо.
Я познакомился с Фаустовым у художника Бориса Лучанского — в Малой Станице, на окраине Алма-Аты. Борис и Альберт были старыми знакомыми — учились в одном художественном училище.
Был у них ещё третий друг — художник-забулдыга с красивым именем Владимир Налимов.
Обычно мы сидели у Бориса и пили портвейн или пиво, насколько позволяли средства. Я пьянел от одного присутствия этих прекрасных людей и художников. Лучанский и Налимов могли пить без конца. Фаустов выпивал сдержанно, умно.
Борис Лучанский, чтобы заработать на жизнь, сторожил два раза в неделю пожарное депо.
Налимов и Фаустов нигде не работали и вели совершенно маргинальную, невидимую жизнь, но были совсем разными характерами.
Налимов буйствовал, ко всем задирался, злословил, пьянствовал, хвастал — и раз в год обязательно оказывался в психушке, после чего надолго впадал в уныние. Рисовал он урывками и без удовольствия. Предпочитал бродить по зелёным окраинам, лежать на скамейках, курить коноплю.
Альберт Фаустов ничего подобного не делал. Можно сказать, он жил как святой. К нему приложимы слова Феликса Фенеона: «Я стремлюсь только к молчанию». У него и телефона не было, и жены, и мастерской, и буйных страстей тоже.
К Лучанскому Альберт приходил редко. И всегда был сдержан, молчалив. В задорных спорах не участвовал.
Я не помню, чтобы он скверно высказался о ком-нибудь. Он и не каялся, и не клялся, был тих, а когда говорил, то очень необычные и важные вещи. Несмотря на то что он был никому не ведом, не признан, в нём не было и тени озлобленности, зависти.
Он не восторгался Западом, как Лучанский, и вообще не болтал глупостей.
Он был одним из тех святых, которые отказываются показывать свою святость. Он был гением, безразличным к признанию.
Худой человек в пиджаке и мешковатых вельветовых штанах, с тёмно-русыми волосами, Альберт ходил, хромая. У него были тонкие руки и выдающееся адамово яблоко.
Чем-то он напоминал верблюда, а чем-то — аиста.
Я никогда не встречал более зрелого, мужественного существа.
И одновременно он был похож на призрак девушки из легенды. Именно так: не девушка — но её тень.
Обитал он на противоположной от Малой Станицы окраине — в новопостроенных микрорайонах, на границе алма-атинской степи.
Как-то я напросился к нему — посмотреть работы.
Он жил в двухкомнатной квартире со своей сестрой, которую я так никогда и не увидел.
Стены их жилища были окрашены тёмно-рыжей краской, как некоторые римские дворцы.
В комнате Альберта стоял стол, кровать. Из-под неё Альберт вытащил холсты и рисунки.
Я пришёл к нему потому, что он был — дух. А я был — тело, тело подростка. Я хотел поучиться, как быть духом.
Он это понял и показывал свои работы, доверяя мне. Между нами установилась связь. Я чувствовал рядом с собой его величавый и хрупкий дух, и работы открывались во всей своей красоте.
Фаустов был очень одиноким человеком и непризнанным художником. И его работы были именно такими — живописью странника, влачащегося по пустыням мира и всюду открывающего оазисы с виноградными гроздьями, с виноградным мясом.
Рассказывают, что кто-то корил философа Диогена за его изгнание. «Несчастный! — вскричал Диоген. — Ведь благодаря изгнанию я и стал философом». Кто-то напомнил: «Жители Синопа осудили тебя скитаться». «А я их — оставаться дома», — ответил Диоген.
Я слышал, что музеи сохраняют и даже сгущают ауру знаменитых мёртвых художников. Ура музеям!
Но живопись Фаустова, как я уже сказал, не была живописью знаменитого художника. Это была совершенно особая живопись — неизвестного, скрытого гения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу