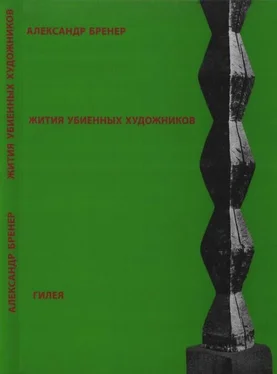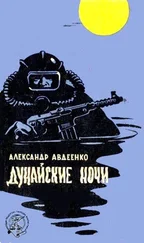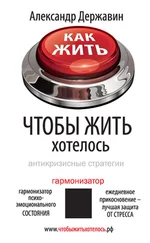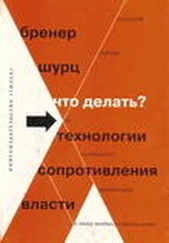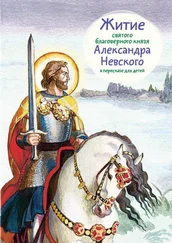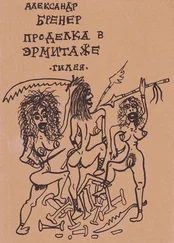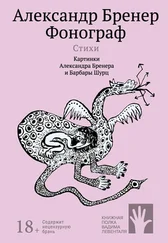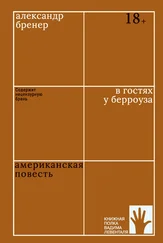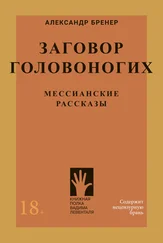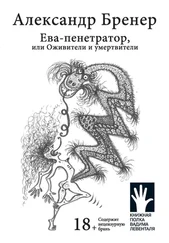Неизвестный гений — лучший на свете.
Искусство неизвестного гения может оценить только другой неизвестный гений.
Как сказал Вольс: «Законченную картину я показываю своей кошке. Только ей доверяю».
Была у Фаустова одна небольшая масляная работа — трамвай.
Просто написан трамвай на пустынной улице, на развилке дороги. Но это был такой трамвай — мурашки по коже!
С чем этот трамвай сравнить? С кувшином Шардена? С ирисами Ван Гога? С баром Эдварда Хоппера?
На этой маленькой картинке не было подобия трамвая, не было его изображения. Там был пуп трамвая. Грудная клетка трамвая. Трамвайная подноготная. Пах трамвая. Трамвай под Солнцем!
Фаустов был Веласкесом — без короля-заказчика. Вместо короля он нарисовал трамвай. И никаких заказчиков!
Фаустов был величественнее Моранди или, например, Филипа Гастона, потому что величие Моранди и Гастона очевидно, а величие Фаустова — нет. Только по-настоящему ясные и непредвзятые люди способны понять величие Фаустова.
Для меня Фаустов в сто раз выше Ричарда Принса, Кошелохова, Уорхола, Петрова-Водкина, Робера Делоне, Немухина, Роберта Римана, Раушенберга, де Кунинга, Тышлера, Рене Магритта, Поллока, Ротко, Арефьева, Герхарда Рихтера, Моне, Марке, Лентулова, Шварцмана, Дега, Кустодиева, Сислея, Сомова, Сальникова, Сурикова, Серова, Сарьяна, Сысоева, Сёра…
Эрик Булатов и Косолапов по сравнению с Фаустовым — просто фельдфебели рядом с Рокоссовским.
Впрочем, вспоминать все эти известные имена в данном случае совершенно необязательно.
Живопись Фаустова имела в себе нечто значительно более древнее и анонимное, не укладывающееся в прокрустово ложе вкусов современного ценителя. Лучше уж сравнить живопись Фаустова с древней порнографией. Или с каллиграфией. Или с натюрмортом с зелёными персиками и стеклянным сосудом из Геркуланума.
Он был — как помпейская фреска.
А если уж сравнивать с кем-то из двадцатого века, то — с Шаршуном.
Серж Шаршун и Альберт Фаустов — мои любимые художники.
В тот день в Алма-Ате Альберт показал мне свои картины с цветами. Там были розы. Просто несколько розовых роз.
И дикая мальва.
Это была редчайшая живопись глаза — мыслящего глаза и любовно-нежной руки.
Сезанн сказал: «Я хочу писать то, что вижу, а не то, что знаю».
Из известных русских художников по этой сезанновской формуле работал только Михаил Рогинский. Но Рогинский был всё же слишком концептуальным, рецептурным художником. А Альберт Фаустов был просто неведомым гением. То есть он всё мог и нигде не давал осечку. Он по-настоящему любил Солнце, но знал и тени, умел их писать.
В тот день у него дома я получил в подарок рисунок тушью: два скачущих в пустоте коня. Я очень хотел иметь именно этот рисунок, и Альберт это понял. Он сам предложил мне его.
Рисунок был не совсем для него характерен — кони мучительные, тяжёлые, загнанные, с искажёнными мордами. Но я почему-то хотел именно их. Может быть, я предчувствовал свою загнанность.
Этот рисунок пропал в моих бесконечных переездах.
Я встречался с Фаустовым ещё раз 20, почти всегда у Лучанского.
А потом Альберт исчез.
Борис сказал мне, что Фаустов уехал к своим родителям — куда-то в Россию, в деревню.
Уехал, и вскоре там умер. Уехал — умирать.
У него был туберкулёз костей.
Он был самым настоящим, прямосмотрящим, мудрым и нежным из всех известных мне художников.
Его искусство было лишено всякой показухи, каких-либо гримас, и находилось вне поветрий, в стороне от воплей и шума времени. Он писал не для того, чтобы принизить вещи, и не для того, чтобы их возвысить. Он лучше Бальтюса понимал, что художник всегда меньше того, что он рисует, меньше того, что он видит. И он лучше Брака знал, что зрение выше всякого произведения. Именно поэтому Альберт не слишком-то много производил, а больше смотрел и, хромая, ходил.
Он видел вещи одновременно как стратег и как туарег. То есть умел точно определить положение любой вещи во Вселенной — и любоваться этой вещью, любить её, нежить.
Фаустов понял, что зренье — не знание, не идеи, не какие-то архетипы и первообразы, а скорее припоминание того состоянья, когда мы могли смотреть на мир — на розу, мальву, трамвай — без жреческих поз, без торжественных клятв, без словесных вензелей, без декламации и сюсюканья.
И ещё он умудрился сделать свою живопись не музейной штукой, не коллекционным барахлом, не замороженной малиной, не ещё одной мухой среди других приколотых к бархату насекомых, а живым мотыльком, который после яркого дня по-прежнему хочет и ищет солнца, и поэтому летит на огонь свечи — и сгорает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу