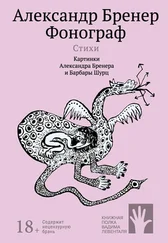Потом он отвёл меня на кухню — к окну во двор.
Во дворе тоже дежурили двое.
— КГБ, — шептал отец, — ты понимаешь?
Я вернулся в свою комнату, и мы выпили ещё вина. Американцы говорили, смеялись, им нравилась моя комната, еда, Таня. Потом я заварил чай, и мы пили его с пирожными.
Дженни и Энди ушли уже за полночь, навеселе.
Мы с Таней были пьяны и целовались.
При расставании я условился встретиться с новыми друзьями ещё раз.
Американцы ушли. А за ними — хвосты из КГБ.
Ушла и Таня.
Отец был на кухне, в полосатом халате. Из-под халата торчали волосатые ноги. Он был похож на Ясира Арафата.
Он сказал, что его, наверное, выгонят с работы.
Я пошёл спать — и провалился.
Утром было похмелье, стучало в висках.
Отца не выгнали, хотя и угрожали. Он преподавал в медицинском институте, у него была хорошая должность доцента.
А я в то время был уже студентом-филологом. Меня вызвали к декану и провели беседу. И Таню Камалову тоже ругали.
Но никого не выгнали, не уволили.
Я, к своему стыду, не пришёл на вторую встречу с американцами. Отец сказал, что если я это сделаю, нам всем крышка.
На небе всегда есть звёзды — даже днём, когда их не видно. И нам всегда снятся сны, даже если мы не спим. После случая с Энди и Дженни отец не перестал слушать Би-би-си и «Голос Америки». Он часами просиживал перед своим «Грюндигом», и всё ловил, ловил зарубежные голоса, вещавшие о свободе, запретных книгах и неофициальных художниках.
Из радиоприёмника доносились слова: Рабин, Солженицын, «Континент», Целков, Шемякин…
Я сидел рядом с отцом и грезил. Там, откуда лились голоса, был Монпарнас, Колизей, Монмартр, Пиккадили, Алан Силлитоу, кафе де Флор, Мик Джаггер, Джек Николсон, Гранд-Каньон, Феллини и Антониони, Эмпайр-стейт-билдинг, Клондайк, Йокнапатофа, Елисейские поля, шерри-бренди, Моше Даян, Саргассово море, Ямайка, порнография, снега Килиманджаро, Артюр Рембо, Сартр, дада, Амстердам, Ницца, Энди Уорхол…
Солженицын уже получил Нобелевскую премию.
Бродский был в Америке.
Вскоре после вечера с Энди и Дженни я возвращался домой с лекции Евгения Алексеевича Костюхина, филолога, фольклориста. Он преподавал нам основы литературоведения. Ему принадлежит прекрасная фраза об Алма-Ате: «Это действительно был город-сад. Обычно в городе здания, а между ними кое-где деревья, а тут были деревья — а между ними кое-какие здания». Вот в этой-то заросшей тополями и карагачами Алма-Ате, в самом её центре, я и пересекал дорогу — по всем правилам, на зелёный сигнал светофора. И тут заметил, что снизу на очень большой скорости движется машина — чёрная «Волга». Я не придал этому никакого значения, ведь сигнал был для меня, пешехода. Но «Волга» не затормозила, не замерла у пешеходной полосы. Она пронеслась на страшной скорости мимо, задев меня за край одежды, обдав шальным ветерком, едва не размозжив об асфальт. Я успел заметить шофёра и пассажиров в кабине — они сидели неподвижно, как манекены де Кирико. Это были казахи, седые мужчины в тёмных костюмах, при галстуках, и выглядели они как партийные боссы. Причём совершенно пьяные — в стельку.
Я, конечно, обалдел.
Чуть не прикончив меня, тут же, на перекрёстке, чёрная «Волга» врезалась в другую машину — красный «Москвич», спокойно ехавший по своим делам. «Москвич» завизжал, крутанулся, почти опрокинулся на бок, и загудел. Из его нутра выскочила ошалевшая семейная пара, размахивая руками, крича. Но всё было напрасно: чёрная «Волга», так и не сбавив скорость, уходила всё дальше и дальше — к проспекту Абая, в сторону снежных гор.
Я, пошатываясь, подошёл к «Москвичу», посмотрел — в его боку красовалась здоровенная вмятина.
— Вы это видели? Видели?! — кричала бедная женщина, обращаясь ко мне.
Я кивнул.
— А номер их заметили?
— Нет.
— Аах-ххх…
Для чего я рассказал эту историю?
Конечно не для того, чтобы установить какую-то связь между визитом американцев и происшествием на дороге. Связи тут никакой не было. Но если бы мчащаяся «Волга» оказалась на сантиметр ближе, я бы уже никогда не увидел ни Пиккадили, ни Бродвей, ни церковь Сен-Сюльпис, ни стриптиз, ни театр Одеон.
Рустам Хальфин был последним моим другом-художником в Алма-Ате.
Он совершенно не походил ни на Лучанского, ни на Гранвиля, ни на Альберта Фаустова, ни на Калмыкова.
Он не был, как они, парией.
Он не был, как они, туарегом.
Дикий и застенчивый характер Рустама был сглажен годами работы в архитектурном бюро, в советском коллективе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу