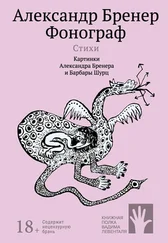О чём же он говорил?
Да обо всём: о Пастернаке и Мандельштаме, о Пикассо и Моранди, о Сталинграде и Хиросиме, о Сахарове и Солженицыне, о Тынянове и Шкловском, о Париже и Нью-Йорке, о Жукове и Роммеле, о Тарковском и Параджанове, о «Петербурге» и «Мастере и Маргарите», о женщинах и детях, о Ветхом Завете и о Новом, об игре в карты и об игре в шахматы, о персидской миниатюре и об армянской, об астраханских арбузах и об узбекских дынях, о Франсуа Рабле и о Михаиле Бахтине, о сифилисе и о гонорее, о гаванских сигарах и о папиросах «Казбек», о Бахе и о сёстрах Бэрри, о транссибирских поездах и о полётах на Луну, о Джотто и о Пиросмани, о Мёртвом море и об озере Иссык-Куль, о «Словах» Сартра и об «Или-или» Кьеркегора, о нищете Филонова и о богатстве Дали, о славе и о безвестности…
Ещё он говорил о своём желании уехать на Запад, где есть свобода и где он мог бы жить на свои работы, а не сидеть по ночам в пожарном депо, изображая сторожа. Но, конечно, больше всего он говорил об искусстве и художниках. О них он распространялся со страшным азартом, восторгаясь, издеваясь, ополчаясь, раздражаясь, иногда с завистью, не без ресентимента, со злобным смешком или нежной улыбкой. Он ругал сюрреалистов, превозносил Клее, насмехался над «Менинами» Пикассо, рассуждал о Бернаре Бюффе, ставил Мондриана выше Малевича, а Шварцмана — выше Мондриана, презирал Оскара Рабина и говорил, что Илья Глазунов — сортирная муха…
Речи Бориса были для меня вроде манны небесной, его слова проникали в душу, а насмешки, намёки, шутки оставляли глубочайший след. Я прерывисто дышал, внимая ему, судорожно вдыхал сигаретный дым (был никудышным курильщиком), глотал мерзкое спиртное, смотрел на «Трёх музыкантов» и на шварцманову сову, — и мир начинал блаженно вращаться вокруг меня, и я знал, что уже напился, что перекурил, что нахожусь в самом пупе Земли, причём не один, а с наилучшим из смертных…
Человеку, утверждавшему, что говорение — зло, Диоген Синопский возразил: «Не всякое говорение, а лишь пустое». Был ли Лучанский пустомелей и брехуном? Я думаю, что он был демагогом — в древнейшем (уважительном), и в новейшем (уничижительном) смысле. Он вещал и он болтал, но большей частью он верил в то, что говорил. Он любил слова, и он хотел смысла.
Борис обожал говорить, но рисовал он мало. А когда рисовал, то на совсем маленьких листочках, обрывках ватмана, тетрадных страничках, кусочках картона. Никаких крупных или средних форматов — только крошечные штучки. Он предпочитал простой карандаш, реже работал тушью, акварелью, шариковой ручкой, цветными карандашами, темперой. Это были миниатюры — тень великой западно-восточ-ной традиции, сгинувшей или зачахнувшей, вытесненной печатной графикой, иллюстрацией и карикатурой. Искусство Лучанского лежало вне всего этого. Будет ошибкой причислить его к графикам, рисовальщикам, гравёрам — он был миниатюрист, работал в согласии с поэтическим духом слова. Что это значит? А вот: изображение, извлечённое из притчи или поэмы, лепет воображения, в котором, однако, слышится властный голос Логоса. Слово, превращённое в пластический знак, в символ.
Искусство миниатюры требует от зрителя особого к себе отношения, а именно любовного, пристального разглядывания — с памятью о книге, о поэзии. Вещи Бориса были напрямую связаны с его чтением — прежде всего с Песнью Песней, со стихами Хайяма, с японскими и китайскими средневековыми авторами, которых он читал в переводах и томики которых нежно обклеивал шёлком и деревянными дощечками. Лучанский не был эрудитом или знатоком каких-нибудь авторов, нет. Ему требовалось надышаться ароматом литературных памятников, опьяниться ими — и тогда он мог рисовать. Главными возбудителями были две фигуры — Меджнун и Лейла, а ещё Суламифь и Соломон. Его волновала та благовонная смесь нищеты и роскоши, которая исходила от этих образов. Меджнуна и Лейлу он чтил как своих персональных божков, находил в их истории свою собственную любовную драму. Он неустанно изображал их на своих крошечных картинках.
Лучанский использовал эти образы примерно так, как до него — Велимир Хлебников. У хлебниковской поэмы «Медлум и Лейли» нет явного прототипа, будетлянин мало опирался на поэтов, писавших на этот сюжет до него. Хлебников воспринял Меджнуна и Лейлу как могучие смыслообразы, как воображаемые иконы, перед которыми он предстоял и которые заново написал — вне канонов. Медлум и Лейли у него — императивы космической, вселенской любви. В конце поэмы Хлебников превратил любовников в созвездия, сияющие на западно-восточном небосводе, источающие божественный свет, чтобы все любящие могли по ним ориентироваться и странствовать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу