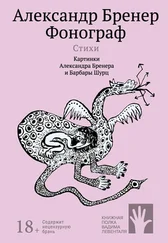Той ночью кончилась моя нежная дружба с послушником Мишей и началась мучительная, душераздирающая связь с Борисом Лучанским — маленьким, чёрным, не терпящим никакого отступничества, авгуром.
И так уж случилось, что именно от него я услышал — года через два-три — весть о гибели Махова.
По слухам, произошло это так.
Миша плохо жил со своей женой-танцовщицей, они ссорились.
Однажды, пьяный, он вернулся домой. Стал звонить в квартиру, где, по его предположениям, находилась жена. Но она не открывала, а у Махова почему-то не было своего ключа.
Не добившись ответа, Миша решил забраться на крышу и перелезть оттуда на свой балкон. Якобы, он это и раньше делал.
Он залез на чердак, с чердака — на крышу, а с неё… не на балкон, а — сорвался, упал на асфальт и разбился насмерть.
Махов попал в Алма-Ату с Урала, из какой-то деревни, а происходил из семьи умельцев — бабка-рукодельница, отец-гон-чар. Несмотря на учёбу в художественном училище, он так и остался самоучкой. К счастью, учителя его не одурачили, уроки рисования оказались бесполезными. Говорят, что увидев покрасневшего от смущения мальчика, Диоген Синопский воскликнул: «Смелей! Это краска добродетели». Я вспоминаю, как часто заливался краской Миша.
Махов был местным, локальным гением. Таких больше не существует. Разница между столичными и периферийными художниками стёрлась, все рыщут нынче в одном Интернете, листают одни журналы, делают одну и ту же бадягу, только столичные — чуточку ловчее. Но раньше было не так. Раньше на периферии творились свои варварские ритуалы, рождались свои скромные чудеса, распускались свои небывалые цветочки, гуляли свои самобытные герои. Скульптор Михаил Махов был одним из них — и не было на свете никого лучше.
Сначала Миша смотрел на мир из своего уральского логова, из избы, потом из кустов — в Алма-Ате было много кустов и зарослей. Миша любил корни и ветви — они питали его воображение. В них ему, вечному подростку и сказочнику, хотелось спрятаться и — глазеть. Миша не любил говорить — он заикался. Миша любил смотреть. Он глядел на мир из зарослей, и только в этом ракурсе находил мир переносимым и даже, возможно, прекрасным. Москва, Товстоногов, Юрский, Смоктуновский — да, безусловно, ему хотелось признания, но он вернулся домой — в древесную Алма-Ату, в своё ветвистое убежище. Переплетения ветвей и стеблей дали ему идею скульптурной формы — ну и, конечно, стиль модерн. Но не только это — заросли стали его жизненной формой, позволили ему быть собой, вернуться в Эдем. Импульс был живым, настоящим, и он неустанно резал, ваял это плетёное, переплетающееся видение, в котором прятались его любимые марионетки.
В Мише было что-то от кружевницы.
Был в нём кустарь, примитивный умелец. Народный художник.
И, да, он был декадентом.
Это смешное соединение декадентства и народности, примитивности и искусственности — момент истины. Ведь настоящий народ — это не толпа на площади, аплодирующая или освистывающая тирана. И не управляемое жлобами молчаливое большинство. И нет ничего народного в телевизионной фольклорности. Настоящий народ хочет сбежать от всех зрелищ и массовок — к своим особым кустарным занятиям, своим скрытым деревянным игрушкам, своей потаённой резьбе, своим странным удовольствиям, в свою воображаемую страну. В этом смысле Миша Махов был подлинно народным художником.
Народу и художнику обязательно нужно спрятаться! В травах, в кустах, в избушке, в лесу, в пещере… Но там ему не найти славы, чести, признания, успеха — только ветви, только соцветия, только филигранную листву, только распускающиеся почки, только камни да хвойные иглы, только зелёные тела богомолов да узоры на спине клопов-солдатиков.
Мой учитель Борис Лучанский
Едва ли не самым смехотворным свойством моей натуры является то, что я совершенно теряюсь в присутствии любого человека. Даже и не обязательно человека — любого существа: кошки, курицы, крысы. Близость живой твари недопустимым образом сбивает меня с толку, конфузит. И я буквально растворяюсь под чужим взглядом. Так бывало со мной в детстве, так случается и теперь.
Но особенно сильно, просто невероятно, я оцепеневал перед Борисом Зямовичем Лучанским!
Он действовал на меня как доктор Мабузе.
Или, может, как Алистер Кроули.
Борис жил со своей мамой на окраине города, в Малой Станице. Там Алма-Ата зародилась — как казацкий форпост. А при мне это было уже обширное и запутанное захолустье, лежащее на буграх и в мелких оврагах, утопающее в черешневых садах, меж которыми текли шустрые речки и мыльные ручейки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу