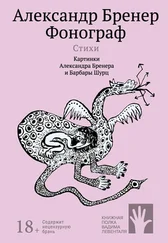А потом вдруг наступил конец.
Что-то между моим отцом и Маховым произошло.
Отец говорил, что Миша всё время хочет денег — ещё и ещё.
Однажды к нам ввалился какой-то пьяный парень и угрожал забрать все работы, кричал, что отец надувает Мишу.
Вскоре так и случилось: скульптуры и рисунки исчезли, и квартира опять превратилась в скучное жильё.
Я был безутешен. Потом — привык.
Помню, мой отец в разговоре с кем-то обозвал Махова подонком. Я не поверил.
Читал биографии художников: Ван Гога, Модильяни, Сомова. И всегда вспоминал Махова.
Затем, через пару лет, я снова увидел Мишу — в книжном магазине. Он листал какой-то альбом. Я узнал его по сутулой спине и белокурым волосам.
Я к нему сразу подошёл и поздоровался.
Он обрадовался, заикался, пожал мне руку. А я был в ужасном восторге: наше знакомство возобновилось, теперь уже я, а не отец, буду дружить с Мишей.
Так оно и случилось, но ненадолго.
Мы вышли на улицу и отправились к нему домой. Он жил с женой — той самой молодой балериной.
Мы поднялись на верхний этаж и оказались в пустой комнате. Там был стол, а на столе — деревянные идолы, болванчики, цацки. Их рожицы и туловища были раскрашены.
Миша сказал, что сделал этих кукол по заказу Сергея Образцова — директора Театра кукол в Москве. Он недавно у него побывал и подружился. И ещё с режиссёром Товстоноговым, и с актёром Юрским.
Я заметил, что Миша изменился. Он выглядел осунувшимся, постаревшим, зато был красиво одет — в настоящие американские джинсы и цветную рубашку. На руках по-прежнему блестели браслеты, а на пальцах — перстни.
Он сказал, что вернулся из Москвы, где его работы купили Ролан Быков, Ефим Копелян и Иннокентий Смоктуновский. А Образцов хотел сотрудничать.
С этого дня я стал бывать у Миши. Он почти всегда оказывался дома — и рисовал, резал, шлифовал. Жену его я не видел.
В это время мне было лет пятнадцать, а ему — примерно двадцать шесть. Разница в возрасте не замечалась, мы проводили часы в разговорах, пили чай, иногда — вино.
Я читал ему свои стихи, написанные под влиянием переводов из французской или американской поэзии. Я тогда был подписчиком журнала «Иностранная литература».
Поэмы я писал эротические, хотя в любовных делах был птенцом: дрочил на порнографические карты и водил хуем по животу одноклассницы. Но я верил уже в Прекрасную Даму.
Как-то вечером, когда мы сидели, к Махову пришёл маленький черноволосый человек. Это был Борис Лучанский. Он учился с Мишей в алма-атинском художественном училище, которое оба они не закончили.
Лучанский принёс бутылку портвейна, мы её раскупорили.
Помню, Борис много и интересно говорил — так мне, во всяком случае, тогда показалось.
Между прочим, речь зашла о Шагале. Лучанский сказал, что Шагал — плохой художник, за исключением короткого русского периода, когда он написал превосходные вещи. С этой оценкой я и сейчас согласен.
После первой бутылки скинулись, я сбегал за второй.
На улице стемнело, шёл снег. Я был пьян, оглушён и счастлив, что сижу с двумя такими великолепными людьми, потрясающими художниками. Я был влюблён в обоих, но вскоре мне пришлось выбирать. Художники ведь ревнивы — как тираны, как собаки, как воры в законе.
С этого вечера началась моя новая жизнь, мой бесконечный любовный роман с Лучанским, моё роковое увлечение. Он соблазнил меня, на всю жизнь соблазнил, больше, чем все куклы Махова. Быстро же я променял пастбище на ристалище! А лучше б мне было бежать от них обоих без оглядки, как и от всех остальных художников — в яблоневые сады, в алма-атинские предгорья, на озеро Иссык-Куль, к голой Олимпии, к обнажённой махе… Но только бы подальше от Махова, от Лучанского, от всего последующего…
В тот вечер я ушёл от Миши с Борисом. И больше никогда не видел резчика кукол.
Идя по мокрому снегу под горящими фонарями, мы с Лучанским, в странной эйфории, продолжили разговор об искусстве. Я признался, что люблю Сальвадора Дали.
— Дали?! Но он же хуёвый художник! Шарлатан!
Я был пристыжён.
Борис умел говорить авторитетно.
Он спросил, кого я люблю из русского авангарда. Я назвал Малевича. Тогда он, словно заклинание, произнёс имя Михаила Шварцмана, с которым встречался в Москве и считал величайшим мастером. Борис заявил, что Шварцман сильнее Малевича. И добавил, что, в сравнении со Шварцманом, работы Махова — шутка, рукоделье, декадентство.
Эта оценка меня поразила. И я, позорник, ему поверил!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу