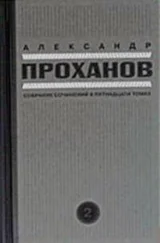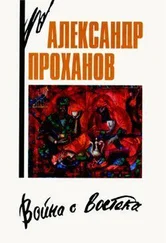Под ноги ложились светящиеся зеленоватые свитки прибоя. Голова кружилась; казалось, пена смывает меня в океан. Я делал быстрый шаг в сторону. И новый звонкий зеленый свиток раскручивался у меня под ногами.
Море выбрасывало светляков. Я поднял с песка горящую безымянную тварь. Нес на ладони маленький ледяной уголек. Он зеленью озарял мои пальцы.
Невидимая в темноте, зажурчала по камням река, вливаясь в океан. Запахло пресной холодной свежестью и еще каким-то сладким и терпким духом.
— Чуете? — сказал рыбак. — Свежим огурцом пахнет. Корюшка. Пошла в реку.
Он включил фонарь, ударил лучом о воду. Она взыграла яркой струей, плавником испуганной рыбы. Он высвечивал каменистое дно. В потоке метались зыбкие рыбьи тени.
— Вовсю идет, — сказал он. — Густо!
Мы ступили в мелкую речную воду. Рыба ударила мне о сапог. Следом другая, третья. Река жила. Кидала в меня быстрых рыб.
Парень окунул руку, выхватил сжатый кулак. Синим лезвием вспыхнула зажатая рыба. Он приблизил фонарь. Осветилась зубастая, прозрачная на свету пасть, медный крутящийся обод глаза, алые кружевные жабры, туго расставленные плавники.
— Огурец! Как с грядки сорвал! — хохотнул парень, нюхая изгибающуюся рыбу. — Идет, пора реку закрывать, — сказал он.
Берега трещали от плавников. Корюшка густо шла к водопаду, копилась в неглубоком песчаном омуте, наполняя его до краев. Облегчалась от икры и молоки. Рвалась вверх на камни. Но струя водопада сбивала ее обратно. Омут оказался реактором, и небо давило на него всей своей звездной массой, охлаждало прозрачно текущей водой, синтезируя жизнь.
Мы уселись на берегу на еловые ветки. И я задремал, слушая тяжкое хлюпанье волн, бурление рыбы и голоса рыбаков, их разговоры о японских шхунах, о деньгах и о женщинах. Проснулся я от холода, был туманный рассвет. Сапоги мои тускло блестели.
И вдруг я вспомнил о галке, что она ждет меня там, и уже рассвет, и нужно скорей бежать, взглянуть на нее на рассвете. Это было так сильно и остро. Я не знал, чего я хотел, что связывал с птицей, но чувствовал: мне надо бежать. И, хотя я понимал, что это чувство родила ночь, и слабый свет луны, и шорох океана, я бросился по узкой косе, расплескивая мелкую воду. Кунгас мотался на якоре, висела старая сеть, качалась на кольях рыба, над тоней подымался дымок. Я добежал и стал задыхаясь.
В траве мокро блестела цепь. На конце ее вместо галки лежал ком окровавленных перьев с остатками белых костей. В тумане над моей головой с криком вились галки. Это они налетели всем граем, расклевали свою подругу.
На крыльцо вышла Людмила, сонная, щурясь на солнце. Стояла, улыбаясь мне… И я тянулся к ней, к прекрасной, юной и доброй, как к последнему прибежищу и спасению, дарованному мне на мое бережение.
— Вы не спали всю ночь?.. Ох, как вы руку-то себе оцарапали!
Она подошла, взяла в ладони мою перепачканную, с сочной царапиной руку. Мы опустились у самой воды, и она принялась смывать с моей руки землю и кровь. Я боялся отпустить ее от себя, чувствовал в ней нежность и любовь. Над утренней океанской зеленью в проблесках и сияниях летели бакланы.
глава шестнадцатая (из красной тетради). Твои серебряные руки
На дощатом ящике стояла жестяная тарелка с длинной забытой рыбой, нацеленной на восток. И оттуда, куда указывала глазастая рыбья голова, из-за Курил, с океана, налетал шторм. Он ложился на море острыми тенями ветра. Белесо туманило солнце. И где-то близко уже клубились дожди и вихри, мяли, месили море, раздирали в клочья рыбные косяки, комкали и вгоняли в волны табуны весенних птиц.
Но здесь еще было тихо. Море мягко омывало гладкую тюленью голову, выплывшую у самого борта, черноглазо взглянувшую на Малахова. Рыбина на тарелке блестела. Шторм еще не успел напустить в нее темный чернильный цвет. Но темные, ядовитые силы уже долетели сюда. Уже проникали в кровь неслышным, едва различимым страданием. Тем более что их судно шло навстречу шторму. Шло на Кунашир — и, значит, навстречу шторму. На острове ждали их, и они ждали на судне: когда же появится на горизонте остров.
Малахов тронул тарелку, повернул рыбу на запад, словно стрелку компаса. В ее узком холодном теле пульсировала теперь магнитная линия. И Малахов тянулся туда всем своим молодым, напряженным телом.
Там, далеко, среди московских домов, старых, с лепными карнизами, желтых, зеленых и серых, его переулок. И дом, и облупленная колокольня в окне с выросшими на куполе деревцами. И мать его ходит неуверенным мягким шагом. Накрывает сейчас на стол, ставит синюю, с отколотым краем сахарницу или стелет постель. Или сидит перед маленькой лампой, читая его письмо, и в глазах у нее горячо и туманно.
Читать дальше