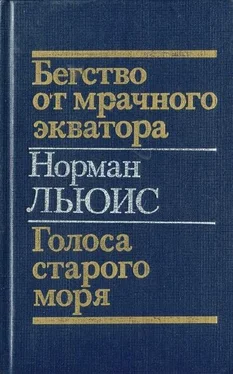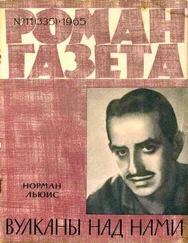Где она брала доноров — сказать трудно, рождаемость в деревне была, наверное, самая низкая в мире.
Моя комната в бабкином доме была странной формы, состояла из сплошных острых углов, потолок сходился в одной точке четырьмя треугольниками, сквозь слуховые окна на пол и стены падал неверный свет.
Ничего цветного в Фароле не признавали, и комната была ослепительно белой, жил я как в кристалле, а черная бабкина фигура приобретала в ней правильные геометрические очертания.
Были и кубические формы — печурка, топившаяся древесным углем, и пол, выложенный кафельной плиткой. Бабка оказалась поэтической натурой — плитка, специально по ее заказу, была расписана переплетенными цветами, растущими из одной ямки; рядом был помещен сосуд в виде амфоры с каким-то благовонием. В других домах я такого не видел.
Мне показали сад, где я мог полюбоваться еще одной оригинальной вещицей — вдоль забора шел тройной ряд колючей проволоки. Бабка из прихоти купила ее целый моток. За забором тянулся частокол подсолнухов, склонивших головы под тяжестью облепивших их щеглов, а сквозь их заросли виднелся берег, где среди бесформенных известняковых глыб блистали миллионы полупрозрачных камушков. Я увидел ряд пурпурных и желтых рыбацких лодок, вытащенных на сушу. Стали договариваться о цене. Бабка задумалась, взгляд ее устремился куда-то внутрь, и она долго ворочала языком, прежде чем сказать: «Пять песет в день». «Здесь, — прибавила она, — вам никто не будет мешать».
Так оно и вышло. Мне, можно сказать, страшно повезло, что удалось отыскать такое местечко. Фароль пользовался репутацией самой захолустной рыбацкой деревни на северо-востоке Испании, что и было привлекательно. Первую неделю я провел на постоялом дворе, но уж больно донимал меня кошачий дух. Хозяйничали здесь два тихих, застенчивых брата, которые подавали еду, и, кроме как за обедом, я их никогда не видел. Один из них приносил тарелку, не глядя на меня, ставил ее на стол и исчезал. К обеду всегда были яйца вкрутую и консервированные сардины — роскошь в здешних краях, а ведь сардину там ловили буквально тоннами. У братцев в подвале жило шестнадцать кошек, а еще четырех они за неделю до моего приезда отнесли в лес и там оставили.
До меня комнату занимала Бабкина старшая дочь с мужем и двумя маленькими детьми; они, как мне потом сказали, с радостью съехали с квартиры, где несколько лет Бабка не давала им вздохнуть, и смогли наконец зажить своей жизнью.
Застроен Фароль был совершенно хаотично: штук пятьдесят домов, похожих на Бабкин, образовывали несколько кривых улочек, еще несколько лепилось по скалам, окружавшим деревню почти сплошным кругом.
Особняком стояло несколько вилл, некогда принадлежавших торговцам пробкой; в конце прошлого века они выезжали сюда на лето. Теперь все они — одни в большей, другие в меньшей степени — лежали в развалинах, но на каждой по-прежнему красовался герб, который их владельцы сами себе придумали. Для нужд жителей в Фароле имелись ветхая церквушка, хозяйственный магазинчик и мясная лавка, а также бакалея, где торговали всем на свете — от фиксатуара до черного шоколада, который отпускали на вес, отбивая молотком от огромной глыбы потребную порцию.
Имелась в продаже и книга — Алонсо Баррос, «Восемь тысяч изречений и назидательных историй», вышедшая в свет в 1598 году. Почти в каждом доме было по экземпляру, и люди сверяли с ней свою жизнь. В кабачке подавали бочковое вино, жидковатое и кислое, полпесеты за стакан, но имелось и бутылочное, под названием «Иносенте», в нем, если судить по надписи на этикетке, содержались все необходимые человеку витамины. В кабачке была диковинка — сушеный дюгонь, который здесь именовали «русалкой». К этой хитроумно заштопанной и залатанной зверюге были пришиты кожаные груди и приделаны стеклянные глаза; срам был прикрыт фартучком. Считалось, что выражение глаз меняется в зависимости от погоды, становясь то грустным, то ехидным, то злобным, и я заметил, что чужаки, коротавшие в кабачке время, спасаясь от ужасов постоялого двора, хуже которого, как поговаривали, в Испании не бывает, усаживались так, чтобы не видеть морское чудище.
За этим-то длинным столом под русалкой каждый вечер собирались рыбацкие старейшины и обсуждали события дня. Изъяснялись они белым стихом: хотя жители Фароля и были чужды музыке, живописи да и любому искусству, слово завораживало их своей силой.
Их родной каталанский язык на таких собраниях уступал место кастильскому: его напевность, как считали рыбаки, лучше подходила для выражения поэтического замысла. Фарольцы подбирали слово к слову так, как их дети собирали коллекцию морских камушков. Стихи рождались прямо на глазах. Стоило замолкнуть одному, как сейчас же заполнял паузу другой, подхватывая незаконченную строку и, дождавшись знаков одобрения, продолжал ее. Получалось нечто вроде:
Читать дальше