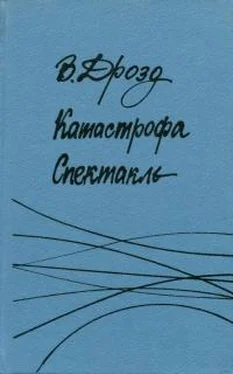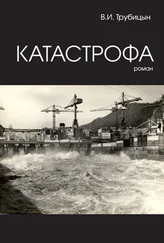И он сказал за завтраком:
— Все думаю про этого чертового щенка. Как-то неловко врать. Будто я из-за квартиры подхалимажем занимаюсь.
Бросил с улыбочкой, и ни намека на свои ночные страхи, на видение черной бездны, куда так легко свалиться при первом неверном шаге.
— Можешь, Андрей, считать меня обывательницей, вам, мужчинам, проще печься о своем достоинстве, а на нас, женщинах, пышно выражаясь, бремя семейного очага…
Андрей Сидорович подивился Мартиной проницательности, а она продолжала:
— Только я считаю, что уступки в мелочах не помешают тебе защищать свои принципы в главном.
Ведь и он думал об этом. Жизнь так устроена, что приходится кое-чем поступаться. Не главным, как сказала Марта. Без таких жертв никто не обходится. И никто им не удивляется. И не стыдится. А вот признать, что из-за какой-то паршивой собачонки лишился должности или квартиры, — это уже смешно. И стыдно.
Не стыдились же гении хвалить бездарные стихи ремесленников только потому, что ремесленник мстителен. Гуляйвитер, судя по всему, — такой же ремесленник. Так стоит ли тебе изображать бог знает какую принципиальную цацу?
Который раз твердит он эти слова, любуясь их логикой и рассудительностью. Вот сидят рядом с ним, на скамье под шелковицей, четверо коллег. И такие уж они кристально чистые? Дзядзько стелется перед редактором порой до тошноты, на что уж он, Хаблак, терпимый. Василь Молохва перешел на бухгалтерское место, сменив братца, только чтобы в Тереховке удержаться, когда ликвидируют район. Гужва, этот еще зеленый, но тоже себе на уме хлопец, знает, где и как себя повести, лишним словом не обмолвится. Никто себе не враг. Конечно, Иван Кириллович иной, по-настоящему честный и принципиальный, никого не боится, никому не льстит. Но Загатный — особ статья, не ему, Хаблаку, ровня. Загатный может позволить себе честность и принципиальность. Да и дети у него по лавкам не плачут.
Загатный — далекий, как звезда, идеал. И единственный человек, чей суд над собой он примет беспрекословно.
Что скажет он об его очерке, его первой большой работе? Хрустя длинными белыми пальцами, Хаблак последним входит в редакцию, пропустив всех впереди себя. Слава аллаху, что сегодня пропахшие табаком кабинеты перестали быть для него святилищем, на пороге которого хочется пасть ниц.
— Товарищ Хаблак, — Загатный перебирает бумаги на столе. — Здесь запланирован ваш очерк. На конвейер!
Вы уже знаете дальнейшую судьбу моих героев. Только Андрея Сидоровича я пока обошел. И не зря. Оставаясь строгим фиксатором событий, не хотел подсовывать читателю непроверенные данные. Хаблак не принадлежал к тем, кого видно отовсюду. Он вошел в провинциальные дебри, в нашу глушь с перспективой тихо заработать пенсию за редакционным столом. Но судьба, в которую с некоторых пор я стал верить, распорядилась иначе.
От нас Андрей Сидорович уехал месяц спустя после описываемых в романе событий. Кроме истории со щенком, на то были и другие причины, но об этом чуть ниже. В одном из северных районов области как раз открывался новый интернат, учителей обеспечивали жильем — и мы лишились коллеги. Все эти годы о нем не было ни слуху ни духу. А во вчерашнем номере областной газеты читаю очерк об учителе Андрее Сидоровиче Хаблаке. Оказалось, что в интернате он развернул бурную деятельность, посадил с учениками молодой сад, ведет литературный кружок, собирает библиотеку современной литературы с дарственными надписями авторов (кстати, среди подаренных книг упоминается сборник Ивана Загатного — воистину пути господни неисповедимы…).
Одним словом, человек не чужое место занял.
Скажу вам, в этом нет ничего странного. Таких людей, как Хаблак, надо уметь понять, суметь разглядеть под нелепой оболочкой сущность. Загатный не сумел этого сделать, а может, и не захотел: это шло вразрез с его жизненными принципами. Но мы все после Андрея Сидоровича почувствовали, что потеряли что-то существенное. Хотя прежде не раз поднимали его на смех, даже глумились над ним. Такова уж гаденькая человеческая натура.
Не только ради информации читателя, которому не терпится узнать, какова же участь всех героев — пловцов в житейском море, упомянул я о педагогических успехах Хаблака. Не принимайте всерьез мой чуть ироничный тон. Честно говорю, я немного завидую ему. Особенно в моем нынешнем положении. Если человек находит себя в работе, считай — он наполовину счастлив. А я догадываюсь, что и семейная жизнь у него задалась. Автор очерка упоминает и о его жене Марте, преподавательнице математики. Так и видятся мне коттеджи в тени каштановой аллеи (в очерке есть похожая картинка), шелест золотой листвы под ногами, мягкая изморозь на поздних чернобривцах. Андрей Сидорович с Мартой оставляют дочурку в детском садике, в Оксанкиных кулачках — глянцевые каштаны, а сами идут, идут рядом, вдыхая пряный запах осени, к ожидающим их ученикам.
Читать дальше