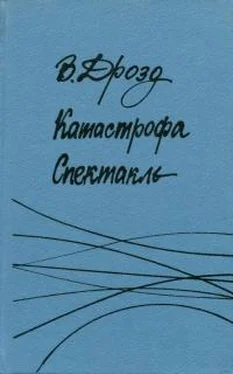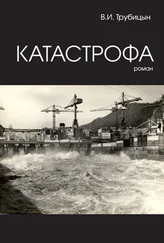И еще одно беспокоило Ивана Кирилловича в эти утренние часы — встреча с районным начальством. Чтобы уважать себя, приходилось и здесь пользоваться типовым проектом: холодность на лице, легкий, живой, задумчивый взгляд, чуть поверх голов. Но это дается трудно. Даже себе не признаешься, как трудно. Наверное, действует инерция людей посредственных, липнущих к сильным мира сего, как мокрый снег к сапогам. А может, еще армейская привычка…
Но знайте, ему-то глубоко безразлично, кто перед ним: тереховские вожди или тереховская масса. Все скроены на одну колодку. Упрямо сжимал губы, чтобы на них не расцвела многозначительная улыбочка, а взгляд не затуманился даже облачком льстивого тепла: мол, хоть об этом и не принято говорить, но мы-то с вами знаем друг другу цену, как и тем, кто копошится где-то там, внизу, в своем ничтожестве. (Подобные мысли не давали покоя Ивану Кирилловичу, который считал своим долгом презирать любое начальство, ибо это свидетельствует о независимости, о значительности натуры творческой, артистической.) Встретив председателя райисполкома или секретаря райкома, он проходил мимо с каменным лицом, едва кивнув головой, с таким видом, будто прилюдно осчастливил их навеки, — и все из страха, как бы другой, сидящий в нем, Загатный не подмял его, истинного. Начальники, понятно, гневались в душе от такого демонстративного неуважения, как и все прочие в Тереховке, были они люди простые, незатейливые и немного патриархальные.
Вконец измотанный почти пятиминутным (от столовой до редакции ходу четыре с половиной минуты, и еще тридцать секунд оставалось, чтобы пересечь двор и отпереть дверь) напряжением воли, Иван Кириллович сворачивал к редакционным воротам, и шагов десять, до шелковицы, где снова попадал в поле зрения коллег, мог принадлежать сам себе. Загатный очень любил эти десять шагов. Только теперь он по-настоящему наслаждался утром, благодарный двору за передышку.
Сбросив на какой-то миг королевские одежды, он замечал небо — еще не тронутое зноем, голубое, свежее. Видел астры, синие, розовые, белые, пенящиеся вдоль дорожек. Нежные настурции ловили солнце и шмелей. Бусинки росы серебрились на стрельчатом листе пырея. Юркие воробьи склевывали в траве под шелковицей перезревшие ягоды. Дуновение чего-то большого, истинного, оно возбуждало и придавало сил после первого акта спектакля для дальнейшей игры. Это был антракт. Несколько секунд Загатный думал только о своем творчестве (в общих и приятных чертах). Он предчувствовал их, неповторимые минуты вдохновения, когда останется один в прохладных кабинетах редакции, склонится над чистым белым листом и засеет его темной причудливой вязью мыслей и образов. Он идет в этот галдеж, в эту толкотню, суету, он хочет доказать им, что посредственностью быть легко, но они не могут даже этого в своем бездумном, растительном существовании, они пошлы в своей пошлости. Он протискивается сквозь потную толпу в круг, ему завязывают глаза платком, он презрительно улыбается и…Но это потом, может быть, в обеденный перерыв, а теперь его ждут. Вот они — Дзядзько, Хаблак, Гужва, Молохва, машинистка Приська, Уля; его увидели, следят за ним, сейчас он поздоровается, антракт окончен, третий звонок, снова пора на сцену. Не в мимолетной ли призрачности вся прелесть этих шагов?.. Его ждут. Что ж, терзайте, распинайте меня все семь рабочих часов, но вы, тупицы, и не догадываетесь, что здесь лишь моя тень, сам же я давно там, где волен видеть вас такими, каковы вы и есть в действительности. И я, смеясь, гляжу на вас с недосягаемой высоты…
— Доброе утро, товарищи!
Они о чем-то болтали до его появления, хохотали, щелкали, вместе с семечками, свежие тереховские сплетни… Неужто успели пронюхать о вчерашнем? А впрочем… В сравнении с тем, что он создаст сегодня, вся гнусь жизни…
Когда он повернул ключ в замке редакционной двери, репродуктор на площади пропикал восемь.
Сегодня впервые за короткую его журналистскую жизнь начало рабочего дня показалось Хаблаку не праздником, а обыкновенной службой. Не обременительной, правда, как во время студенческой практики в школе. Тогда он шел на занятия как на допрос: не поладил с классом, шестиклассники смеялись над его внешностью, над манерами, над фамилией. Сейчас было иное; вполне трезвая мысль, что ему надо отработать четыре часа, потом час перерыва на обед, потом еще три часа — и свободен, вплоть до следующего утра. Он будет принадлежать себе, дочке и Марте. Он радовался непривычной легкости — так служит большинство, теперь и он принадлежит к этому большинству, сольется с ним, а это приятно, надежно укрывает, никто не будет указывать на него пальцем, вот, мол, Хаблак вкалывает до седьмого пота, вечера просиживает над заметками, которые другие щелкают как семечки. Он отныне работает, как все. И беззаботен, как все. Равнодушен, как все. Как все — магическое слово. Возбуждающий холодок в груди, когда опустишь глаза, заглянешь в темную бездну, куда можно катиться, катиться — и не достигнешь дна. Ночью он все же здорово трухнул: будто сняли вдруг все табу — все дозволено, стоит лишь захотеть. Шел на работу как молодой завоеватель по улицам покоренного, но еще не взятого «на щит» города. В таком настроении люди добиваются имени, достатка, положения. Почему Андрей Хаблак должен отставать от других? Из старомодных принципов? Жена права — мы очень плохо устроены, чтобы быть гордыми. Другие вон живут, как грибы в теплицах, и то пасуют на каждом шагу перед сильными мира сего. Так сказала Марта, и она права. Только ночью все видится в мрачном свете, трагичным. А с рассветом понимаешь — ерунда, не стоит выеденного яйца.
Читать дальше