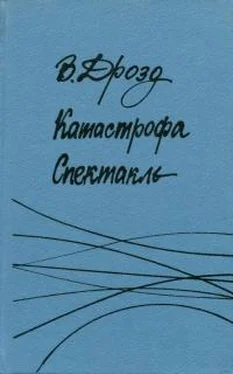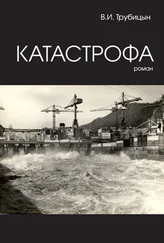— Я попросился в редакцию не ради куска хлеба, Иван Кириллович. На хлеб я мог заработать и в школе. Я хочу быть журналистом.
— Между нами говоря, вы никогда не станете журналистом, товарищ Хаблак. Это святая правда, и когда-нибудь вы будете благодарны, что я открыл вам на нее глаза. Из человека, который полдня потеет над восьмистрочной заметкой, еще никогда не получалось хорошего газетчика. — Загатный холодно улыбнулся. — Вы бездарь, товарищ Хаблак. Посредственность. И чем раньше поймете это, тем лучше для вас. Кому-кому, а вам выступать против моей правки, мягко говоря, нетактично… И не впадайте в истерию, меня это не растрогает…
Белый, как лист меловой бумаги, Андрей Сидорович повернулся и вышел из секретариата, не прикрыв дверей. Его тяжелые сапоги долго топали в соседних комнатах, потом долговязая фигура приплыла под окнами, мимо курцов под шелковицей и потащилась (плечи повисли, руки со скомканными листками за спиной) к воротам. Ивану стало жаль Хаблака, и себя жаль, и так мерзко, жить не хотелось. Поправил галстук, свесился из окна:
— Товарищи, сигаретку…
Первым поднялся Дзядзько. Но Загатный нахмурился, не хотелось брать из его рук.
— А с фильтром ни у кого нет?
С фильтром были у Гужвы. Иван прикурил, поблагодарил, пошел в глубину комнаты. И вдруг весь вчерашний, отравленный сигаретным дымом день хлынул в душу, прорвал плотину. «Хлюпик, полное безволие, с сегодняшнего дня начинается новый Загатный, это для тебя последний шанс, сколько можно возрождаться и снова умирать. Надо было сказать Хаблаку всего три слова: «Оставьте очерк себе» — и заменить его другим материалом. А он намолол сорок бочек… С варваром надо по-варварски, вот монахи умели обуздывать свою похоть и свои страсти, только так…» Иван глубоко затянулся, отвернулся к стене и прижал горящую сигарету к руке, чуть повыше запястья. «Не говори лишнего, не говори лишнего, не говори лишнего…» Смотрел на стену, розовые цветы вспыхнули на белом и кружили, кружили. «Будь беспристрастным, как господь бог. Будь беспр…» Запахло паленым… Загатный передохнул, отнял окурок, дыхнул на ранку. Пепел развеялся, мертво бледнела обожженная кожа. Светлое озерцо вокруг трех сизо-розовых волдыриков. Если без этого не обойтись, он сожжет всю руку.
Иван Кириллович швырнул окурок за окно и подошел к столу.
Много размышлял о себе, о Хаблаке, и все четче выкристаллизовывалась одна мысль. Любая беда не страшна, если бы мы рождались бессмертными. Боюсь последней минуты, когда себя уже ничем не обманешь, когда увидишь себя нагим. Боюсь последней жестокой правды: все годы гнался за призраком, а жизнь прошла. Боюсь потерять уважение к себе за миг перед концом.
С тех пор, как узнал о своей обреченности, каждый день меняю кожу. Одна за другой спадают с плеч пестрые одежды и рассыпаются у ног моих во прах: спокойствие, уют, деньги, вещи, даже семейное счастье. Улыбаюсь снисходительно бывшему Гужве: дурачок, за чем гнался? Не обвиняю себя, живой о живом думает. Но если бы удалось родиться заново или счастливый случай вдруг исцелил меня, я бы жил иначе. Помнил всегда о последней минуте, которая рано или поздно придет.
А впрочем, уж слишком это лихо звучит: жил бы иначе… Совсем как у Ивана Кирилловича, который каждое утро начинает жить сначала. А он всегда существует, вчерашний наш день, хитрый, коварный, цепкий, сторожит у нас за плечами и ждет не дождется, когда мы хоть на полшажка оступимся. Захохочет, запляшет в бешеном танце, как леший, и потащит нас в бездонный омут, в наше прошлое.
Теперь меня мучит одно — только бы хватило дней, которые мне еще суждены, чтоб дописать роман. А глотать все труднее, я заметно худею, уже и аппетита нет — и к еде, и к жизни, ночами кашель бьет, сдерживаюсь из последних сил, уткнувшись в подушку, а потом как прорвет. Уже и жена волнуется. Допытывается, все ли в порядке у меня со здоровьем. А тут все чаще мысль приходит: может, медицина, эскулапы эти, хоть на несколько дней отсрочат мой конец, ведь существуют же какие-то средства. Вдруг именно этих недель и не хватит, чтобы дописать последние странички? Кто знает, до каких пор я смогу еще рукодельничать — ведь так прижмет, что и ручку в пальцах не удержишь. И останутся мои тетради семье на память, пожелтеют в столе или истлеют в печи.
И все мое со мною в гроб ляжет.
Снова же опасаюсь: а вдруг врачи уложат на койку в общей палате, колоть станут, резать, обнадеживать до последней минуты, и я только время потеряю. Хоть круть, хоть верть — под черепком смерть… Дурацкая какая-то пословица или строчки стихов еще со школьных лет в голове вертятся, по улице идешь, а в такт шагам скачет: хоть круть, хоть верть — под черепком смерть… Мерзость…
Читать дальше