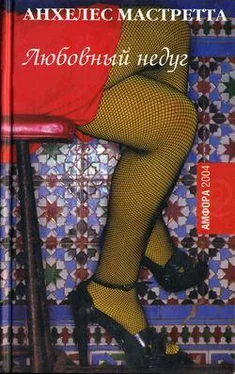– Я чувствую себя рогоносцем, – пожаловался Диего. – А теперь вы будете мечтать о том, чтобы иметь дочь-врача.
– Ах, если бы она была моей дочерью! У меня не хватило сил родить девочку, – сказал Куэнка, прекращая разговор об Эмилии и вновь возвращаясь к своей постоянной головной боли: перспективам войны и необходимости благоразумия, последней обязанности старика, жизнь которого прошла в самый воинствующий и скорбный век в жизни Мексики.
Он боялся необратимых последствий и старался сдержать нетерпение тех, кто уверял, что восстание в Пуэбле поднимет за собой всю страну. Он не доверял тем, кто полагал, что будет легко взять штурмом казармы, захватить магазины, поднять забастовки, а затем пасть жертвой спешки и крайностей, забыв об умеренности и идеалах. Он мечтал о политике, о политической работе, как о самой благородной из работ, о победе терпения и рассудка над гневом. Как и Диего, он не доверял фанатикам, тем, кто был готов умереть и убивать, чтобы раз и навсегда покончить с мирным укладом, который он так ценил. Он не думал, как другие, что в Мексике ничего не изменилось за последние тридцать лет. Он считал, что мечта была предана, потому что жизнь – это всегда предательство мечты. Республика, о которой мечтало его поколение, должна была быть демократической, основанной на принципах равенства, рациональности, продуктивности, открытой всему новому и прогрессивному. Но он состарился, наблюдая, как она превращается в царство богачей, оставаясь территорией диспропорций и диктатуры. Все было так, как когда он родился, когда его дед боролся за освобождение страны от испанского владычества, это было общество, жившее по законам самого бестолкового католицизма, привилегий, пожалованных королем, и произвола местных вождей.
Но это был мир совсем не тот, что тридцать лет назад. Многие вещи остались без изменений, а многие другие изменились настолько, что даже невозможно передать. Повсюду царили нищета и застой и тут же богатство, перемены были видны. В довершение всего старики лезли вон из коней, чтобы править в этой стране молодых, которым оставалось только страстно мечтать о будущем.
Они долго говорили в этот вечер, полный волнений. Хосефа на три оборота закрыла входную дверь, чтобы люди, составлявшие смысл ее жизни, в ближайшие часы, если и захотели бы переделать мир, смогли бы совершить это без пролития крови, с помощью силы воображения и слов, не выходя из дома.
Доктор Куэнка попытался уйти около одиннадцати, но поскольку госпожа Саури отказалась отпереть дверь, пока свет нового дня не зальет все улицы города, он опять повесил шляпу на вешалку и выпил свой первый бренди.
Не было смысла нести свои тревоги в другое место. Те, кто вместе с ним болел здесь за мир, собственно и составляли его мир, не хватало только его сыновей, уже давно странствовавших по свету в поисках свободы, которой не было у них на родине.
Эмилия Саури отсутствовала на этом консилиуме. Она вышла из ванной и пересекла гостиную, распространяя запах цветов и стиракса. [32]
– Пойду посмотрю, как там мой больной, – сказала она и исчезла.
Ее больной спал. Она проверила его пульс, температуру и села, придвинув стул, рядом с ним. Она смотрела на него в пугающей тишине, пока не заснула.
Она не знала, сколько времени прошло, ее разбудил звук ключа, медленно поворачивающегося в замке входной двери. Ей стало страшно, потому что она тут же представила мысленно вторжение полиции, о бесчинствах которой слышала всю жизнь, но после этого первого испуга она вспомнила, что должна оберегать больного, доверенного ее заботам, и пошла к двери. Она увидела, как дверь приоткрылась, как темноту улицы прорезал робкий луч фонаря во дворе дома, и, выпрямившись, стала ждать, когда войдет человек в форме и отдаст какой-нибудь ужасный приказ. Но дверь приоткрылась еще шире, и фигура Даниэля в одежде крестьянки, закутанной в накидку, как и прежде, заставила ее задрожать так, как она не позволила бы себе дрожать ни перед одним полицейским.
Они не сказали друг другу ничего, они жили, слыша эхо своих голосов, ибо звук их уже не стал бы излиянием той нетерпеливой любви, что поддерживала их в этой жизни в их редкие встречи. Эмилия всегда представляла себе в мечтах, как она раздевает его, и, когда она сделала это в затопившем их полумраке, их пальцы сами по себе вспомнили былую ловкость, а губы зажглись тем самым пламенем, что всегда не давало им покоя.
Читать дальше