То же самое чувствовала Толстикова сейчас. Вместо твердой почвы под ногами бездна. Воздух в легких на исходе. Тогда, в детстве ее спасло чудо — течением вынесло на бревно, лежавшее на берегу. Раньше Лиза думала, что гибель Миши — тот предел, тот край, страшнее которого ничего быть не может. Но как передать то унижение, тот стыд, когда ее забирали прямо из музея, на глазах сотрудников и посетителей? А потом допросы, допросы. Ее уводили в вонючую камеру, а через два часа вновь гремел засов и раздавалась команда: «Толстикова, к следователю». Вскоре Лиза уже не понимала, что сейчас на улице — день или ночь. А голос следователя то настойчиво груб, то вкрадчиво мягок: «Вы же с ног валитесь! Не упорствуйте, Елизавета Михайловна, ответьте, где картина». Сначала ей казалось, что все происходящее — чья-то дурная шутка, недоразумение — и ничего более. Но… все та же бездна под ногами, и — совсем нет воздуха в легких. Она не сомневалась, что друзья не сидят сложа руки и пытаются помочь, но легче от этого не становилось. К унижениям, физическим страданиям добавилась лютая обида. На весь белый свет. И пришла мысль, показавшаяся спасительной и даже сладкой: если жизнь так несправедлива, если несправедливы люди — стоит ли жить дальше? Ее ум, как за соломинку, хватался за прежние убеждения, за веру, согласно которой, самоубийство — страшный грех. Но откуда-то из глубин сердца росла, словно на дрожжах мечта о мести: пусть им всем будет плохо, пусть будет стыдно. Кому — им? А вот именно, всем-тем, кто украл картину, кто возвел на нее напраслину: следователям, надзирателям, соседке по камере, живописующей в разговорах все «радости» тюрьмы, которые еще ждут ее, Лизу. И, конечно же, Сидорину. Господи, как сейчас он нужен! Но в то время, когда ей так плохо, Асинкрит где-то мотается, пытаясь разгадать тайну своих снов.
И Лиза приняла решение: если в ближайшие часы не придет освобождение — она покончит с собой. Как? Совсем не важно, придумает что-нибудь. Главное — пришла идея, показавшаяся спасительной. И много позже, Лиза уже не осуждала, а жалела самоубийц, ведь она теперь понимала мотивацию их поступков: эти люди не хотели уйти из жизни, а всего лишь желали обратить внимание мира на то, как им плохо…
— Толстикова! — вновь лязгнул замок почти одновременно с голосом надзирателя, — на выход!
В тот момент Лиза не вдумалась в смысл этих слов: она продолжала размышлять о своей мести миру и приняла первое слово надзирателя — «Толстикова!» — за знак. Что ж, если обещала, значит надо держать слово. А Сидорин, пусть этот сукин сын продолжает мотаться, неведомо где. Приедет — вот удивится.
Но вместо кабинета следователя ее отвели в ту самую комнату, откуда начался ее путь в ад. Толстиковой вернули вещи, выдали какую-то бумагу — и вывели на улицу. Ворота за ней захлопнулись… Лиза в растерянности стояла на запорошенной листвой тихой улице, носившей имя борца за Советскую власть в губернии Губермана, этой же властью потом, в 1937 году и расстрелянного. Все произошло слишком быстро и неожиданно, чтобы Толстикова поняла до конца, что случилось. И вдруг Лиза заметила одинокого человека, сидевшего на скамье в маленьком скверике напротив здания изолятора. Сердце молодой женщины забилось сильнее — она все поняла. Человек сосредоточенно чертил что-то палочкой на земле, сгоняя, как надоедливых мух, листья, летевшие ему под ноги.
— Сукин сын! Сидорин! Сукин сын! — и Лиза, что есть сил, рванула навстречу ему.
Асинкрит, а это был он, отбросил палочку и, видимо, хотел тоже побежать навстречу Лизе, но не успел: она, не замедляя скорости и не прекращая кричать: «сукин сын» и «где ты был», со всего маха влетела ему в грудь, словно пытаясь спрятаться от всего, всего, всего — наветов, клеветы, изолятора, следователей, надзирательницы, сокамерницы. От плача плечи женщины заходили ходуном.
— Сукин… где ты был… я так… ждала. Ты… ты даже не думал…
Сидорин растерянно и нежно гладил ее по спине, волосам, искал слова — и не находил. Тех самых-самых. И он стал читать стихи. Впрочем, читать — не совсем верное и уместное здесь слово, поскольку Асинкрит одновременно и утешал Лизу и признавался ей в любви. Признавался в любви в первый раз в жизни — в смысле, не лукавя, не играя.
Редкие прохожие удивленно оглядывались на эту странную пару — рыдавшую женщину и мужчину, который, глядя куда-то вдаль и продолжая гладить свою спутницу по спине и волосам, скорее говорил ей, нежели декламировал:
Читать дальше



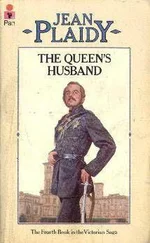


![Виктор Баранец - Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres]](/books/393850/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p-thumb.webp)


