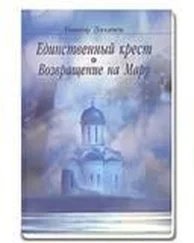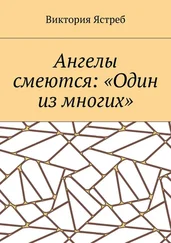Виктор Лихачев
Ангелы уходят не прощаясь
Я уйду в неясный день,
Там в долине плачет птица.
Может, это — коростель?
Может, это только снится?
Или ночью, в час глухой
Я уйду, забыв потери,
И оставлю за собой
Старый дом и скрипы двери.
Этот скрип — вздох обо мне —
Ничего уже не значит,
Засмеется дочь во сне,
Под подушкой крестик пряча.
Только должен я уйти
В час любой, в пургу и слякоть,
Будут грозы на пути,
Будет в ивах ветер плакать
Или это коростель
Все зовет меня в дорогу?
Я уйду в неясный день,
Чтоб найти себя и Бога.
Кстати, домов в деревне много? Ты что, глухой? Домов, говорю, много?
Писатель открыл глаза. Солнечный зайчик, веселый посланник ласкового сентябрьского утра, озорничая, пробежал по стене сверху вниз, однако хозяин однокомнатной квартиры в девятиэтажной «высотке», только хмуро хмыкнул, давая этим понять, что от нового дня он ничего хорошего не ждет. Более того, не считая себя прозорливцем, писатель мог с точностью до минуты сказать, как сложится его сегодняшнее бытие. Вот сейчас он будет лежать в постели где-то с полчаса, мучаясь угрызениями совести. Дело в том, что вчера им самим в очередной раз было дано честное-пречестное слово, что с завтрашнего дня, то бишь, с сегодняшнего дня он начнет новую жизнь. «Новая жизнь», как понятие включало в себя следующее: писатель должен встать в шесть утра, сделать зарядку, принять холодный душ, затем отказавшись наконец-то от кофе, выпить полезного зеленого чаю, до обеда написать статью про Ирак и Буша, чтобы ему пусто было, затем наконец-то начать работать над новой книгой, забыв при этом про магазин напротив дома, где продается коньяк в стограммовых бутылках, а также водка в емкости большей ровно в два с половиной раза. Вечером обязательно прогулка по лесу, затем чтение хороших книг, благо их список уже давно составлен. И, возвращаясь домой, обязательно набраться столько силы духа, чтобы не зайти в тот же магазин напротив, забыв о чудном крымском портвейне, который там продается… Что еще? Впрочем, это не важно, ибо сегодня зарядку он сделать, похоже, не сможет. Нет, это вовсе не слабость, а элементарное здравомыслие: вчерашний портвейн был крепок, а его сердце, увы, не железное. И сегодня оно должно отдохнуть. Разве вот что кофе… в последний раз, чтобы лучше про Буша написать…
Внезапно раздался звонок. Кому, интересно, неймется в такую рань? — Простите, вас Иркутск беспокоит. — Кто? — Иркутск.
— Интересно, что я сделал плохого целому городу?
— Понимаем, что разбудили. А у нас уже скоро полдень. Алло, вы слышите?
— Слышу. А кто, собственно, говорит?
— Борис Николаевич.
— Только не говорите, что вы — Ельцин.
— Да нет, я Чернов. Помните, написал вам по поводу вашей книги?
— Теперь вспоминаю. Слушаю вас, Борис Николаевич.
— Я еще приглашал приехать к нам, на Байкал. Вы сказали, что таких денег не соберете, чтобы доехать.
— Точно. Будете смеяться, но сейчас я в соседнюю Тульскую область выбраться не могу, и все по той же причине.
— Еще как понимаю: сами так живем. Ну, так вот: мы вас ждем. Все уже решено, слава Богу.
— Не понял.
— Вы к нам летите. Сегодня в три часа дня. По-вашему в десять.
— Борис Николаевич, простите, но у меня на календаре не первое апреля, а четырнадцатое сентября.
— Слушайте внимательно: из Жуковского в три часа летит грузовой Ан-12. Летит к нам на авиазавод. В самолете три пассажирских места, одно забронировано для вас…
Сначала писатель решил сказать старосте одного из иркутских храмов все, что он думает о его затее, но так взволновано и радостно звучал голос Бориса Николаевича, сообщавшего как бы между прочим, что завтра у него, писателя, встреча с читателями в местной библиотеке, послезавтра поездка на Байкал, а на после-после завтра запланировано знакомство с Бурят-Монголией… Он слушал и думал: «Если я сейчас соглашаюсь, то выпить кофе уже точно не успеваю. Наконец-то хоть раз, но сдержу слово». И ответил коротко: «Ждите, вылетаю».
* * *
Это были удивительные десять часов полета. Писатель словно возвращался в детство. Только тогда он мог часами смотреть, как за окном вагона мелькают деревья, озерки, поля, города. Вот и сейчас, во время полета, ему не лень было все десять часов, не отрываясь, глазеть в иллюминатор, где под крылом самолета лежала Россия. Все было по-настоящему и одновременно уменьшено, как по мановению палочки волшебницы-феи.
Читать дальше