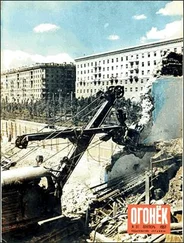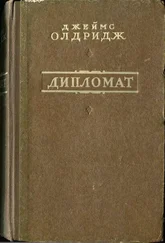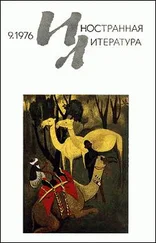Он засмеялся отрывистым нервным смехом и ушел, предоставив Фримену выполнять долг милосердия. Вскочив в седло, он выехал за ограду аэродрома; там Бекр, Али и еще двадцать-тридцать бедуинов гнали по пустыне разрозненные горсточки людей — все, что осталось от военной охраны аэродрома и авиационной части, на нем базировавшейся. Гордон сразу понял, что тут уже опасаться нечего. При малейшей попытке растерянных безоружных бахразцев собраться вместе на них тотчас же налетали Бекр и Али со своими приспешниками и разгоняли их, точно стадо овец. Это было поистине великолепное развлечение для людей, которые привыкли играть, со смертью и ценили игру дороже добычи, что, впрочем, не помешало каждому из всадников оснаститься по крайней мере десятком винтовок и целым ворохом плащей, фуражек, башмаков. Опасаясь, как бы эта свирепая игра не увлекла их сверх меры, Гордон скомандовал прекратить погоню. Они уже сделали все, что можно было сделать в борьбе с противником, не принимавшим боя; дальше это грозило перейти в оргию.
На зов Гордона почти все беспрекословно повернули назад: сказались усталость и наступившее пресыщение. Только Бекр продолжал носиться, как одержимый, размахивая своей саблей (огнестрельное оружие он считал недостойным таких подвигов) и похваляясь, что уже зарубил ею сто человек. «Тысячу!» — восклицал он через минуту, боясь, что его заслуги еще недостаточно велики. Али действовал более практично. Он выбрал себе самую лучшую винтовку из сотен валявшихся на песке пустыни. Для этого он перепробовал и отбросил штук двадцать, стреляя по живым мишеням с различных расстояний. Но теперь он был удовлетворен и сразу же послушался приказа. Зато, чтобы справиться с Бекром, Гордону пришлось ухватить его верблюда за повод и, не слушая негодующих воплей всадника, силой привести его на территорию аэродрома.
Когда ему удалось таким образом восстановить порядок и вновь утвердить свою власть, на аэродроме появился бахразец Зейн в сопровождении шести воинов из свиты Хамида. Он спешил сюда, верный данному слову, чтобы предотвратить кровавое побоище, но еще до встречи с Гордоном он достаточно увидел. Они встретились молча; Зейн не произнес обычных приветствий и ни словом не обмолвился о кровавой расправе с его братьями. И по этому зловещему молчанию, по тяжелому вопрошающему взгляду Зейна Гордон понял, что совершил самое большое преступление в своей жизни. Он это понимал особенно отчетливо и ясно потому, что особым чутьем угадывал все мысли этого маленького человека, который был так похож на него самого. Он видел, как нарастают в Зейне боль и гнев, как он мрачнеет, думая обо всей пролитой здесь крови, и страдал за него, понимая, что смерть так же непоправима и мучительна для революционеров Зейна, как и для кочевников Гордона.
— Разве сын пустыни непременно должен быть убийцей? — с горечью вымолвил наконец Зейн, потрясенный страшным зрелищем. В его словах была скорбь, было даже негодование против Гордона, но упрека в них не было. — Почему ты не дождался? — спросил он с тоской.
— А чего было дожидаться? Разве Хамид мог твердо рассчитывать на твою помощь?
Зейн покачал головой. — Я бы не допустил этой бойни.
— А ты думаешь, я допустил бы, если б это зависело от меня? — спросил Гордон.
Большая голова Зейна оставалась неподвижной, но глаза впились в глаза Гордона, как бы испытывая, можно ли ему верить. Во взгляде самого Зейна читалось одно — зачем, зачем, зачем; и все же неожиданный, отчаянный вопль души Гордона встретил в нем отклик. И тут Гордону стало ясно, что маленький бахразец может простить ему почти все благодаря той внутренней связи, которая помогает им понимать друг друга. В этом сказалось переплетение их судеб. Упрек Зейна растворился в их общем горе.
— Ты действуешь очертя голову, Гордон, — тихо сказал Зейн. — Без рассуждений, без мысли, как простой кочевник. Все — сгоряча. Тебе это не пристало, брат.
Гордон сделал еще одну попытку оправдаться: — Я должен был действовать так, потому что только отчаянной решимостью могут племена добиться своего. Ты сам знаешь это. Сам знаешь, что нам некогда задумываться над трагедией твоих бахразских братьев.
Но все доводы звучали неубедительно, и Гордон чувствовал, что на этот раз его двойник одержал над ним верх. Справедливость была бесспорно на стороне Зейна; можно было отмахнуться от нее колкой насмешкой, но это не вернуло бы Гордону утраченного чувства превосходства. То, что бахразец теперь замкнулся в себе, было непоправимо, было навсегда. И тем яснее ощущал Гордон свою ошибку или неудачу.
Читать дальше