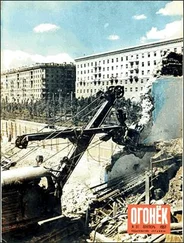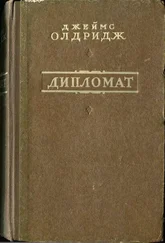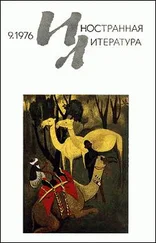Вслед за машинами в этот адский круг ворвались всадники, круша пылающие остатки лагеря и разгоняя охваченных паникой солдат. И вся армия бродяг во главе с Бекром и Али врубалась в огненный хаос, преследовала и настигала бегущих, оглашая воздух свирепыми криками: «О аллах, омочи в крови мой клинок!»
Случилось то, что предвидел Гордон, — орда вышла из подчинения его воле. Когда рассвело и можно было убедиться в одержанной победе, Гордон еще долго носился по всему полю, пытаясь обуздать своих людей, но это было невозможно. И теперь он сидел у бронемашины Смита и смотрел на темневшие в холодном свете утра кучи окровавленных тел. Вперемежку с убитыми и умирающими бахразцами лежали и бедуины. Многих скосили бахразские пулеметы, которые вели огонь, не разбирая чужих и своих. Многие были убиты собственными товарищами, потому что в исступлении, овладевшем людьми, убийство сделалось самоцелью, манящей и всеподчиняющей, и слишком сладко было наносить смертельный удар, чтобы при этом еще думать, кому он достанется.
Жажда истребления не иссякала. Люди Гордона рыскали по всему аэродрому, то и дело затевая драки между собой, хватали добычу, жгли, кололи. Гордон смотрел на них с омерзением, но не двигался с места. Смит один вне себя метался среди продолжающегося разгрома, стараясь усмирить этих людей, чтобы проснувшаяся в них жажда грабежа и убийств не утопила в крови дорого стоившую победу.
Лицо Смита потемнело от возмущения и гнева.
— И этих людей вы считаете чуть ли не богами на земле, — сердито сказал он Гордону. — Ведь, по вашему убеждению, араб-кочевник — высшее существо, на которое все мы должны взирать с благоговейным восторгом. Вы просто сумасшедший, Гордон! Подите взгляните на них, ведь их даже нельзя назвать людьми. Они знают только одно — убивать. Все равно кого, лишь бы убивать. А это дело, которому вы служите…
Смит махнул рукой, не договорив.
Неподалеку от них протяжно застонал раненый. Это был стон умирающего, в котором уже не слышалось боли, только предсмертная тоска. Гордон посмотрел на него с жалостью, потом с еще большей жалостью взглянул на Смита.
— Бедный Смит, — сказал он, горько усмехнувшись, и ясно было, что он подбирает доводы не только в объяснение Смиту, но и для себя, для того чтоб облегчить собственную боль. — Неужели вы думаете, что двадцать лет жестокого угнетения могут отвалиться легко и незаметно, как увядший лепесток какой-нибудь английской розы? Посмотрите кругом…
— Я смотрю. И не знаю, как на это можно смотреть без отвращения.
Гордон нетерпеливо пожал плечами. — Как вы не можете понять, Смит, что смерть еще не самое отвратительное во всем этом? Ведь гораздо страшнее то, что человек вынужден становиться зверем, сеять смерть, чтобы отстоять для себя хотя бы элементарную свободу? Разве сознание этой необходимости не отвратительней, чем вид крови?
— Не было вовсе необходимости устраивать такую бойню. Это дико, бессмысленно. Вы сами этого не хотели, вы сами говорили, что можно обойтись без этого.
— Я не хотел! Я говорил! Я только дал им повод к насилию, все остальное сделал инстинкт, вырвавшийся на волю. Не во мне тут дело. Взгляните на себя. Вы весь в крови, в копоти, одежда на вас висит клочьями, вы похожи на дикаря; ведь и вы тоже убивали, да еще во имя чужого дела. Они кровожадны, по-вашему? Так ведь и от вас пахнет кровью.
Смит не хотел согласиться с этим. Он растерянно мотал головой, потом вдруг закричал снова; «Посмотрите! Вот сюда посмотрите!» Его осуждающий взгляд указал на араба, который лежал в двух шагах от них, испуская глухие стоны. Этот человек пострадал в самом начале, когда вспыхнули первые палатки, облитые бензином. Он обгорел до полной неузнаваемости, нельзя было даже определить, бахразец это или один из бедуинов. Только услышав стоны, они поняли, что он жив и, должно быть, нестерпимо страдает. Лежал он на боку, съежившись, точно прибитый ребенок.
— Если вам просто тяжело видеть смерть и боль, — сказал Гордон, встав и направляясь к несчастному, — значит, вы еще не знаете настоящих мучений.
Гордон вынул револьвер и прикончил умирающего по-арабски, выстрелом в упор в голову. Стрелял он не глядя и тотчас же вернулся к Смиту, держа револьвер в далеко отставленной руке, как будто это была какая-то гадина.
— Смерть не страшна, — сказал он глухим голосом. — Страшно то, что нужно убивать. Необходимость смерти — вот главное зло!
Смит побрел прочь, содрогаясь от беззвучных рыданий, а Гордон думал о главном зле, и так тяжелы были его мысли, что укоры гипертрофированной совести Смита не рассердили его, а скорей опечалили. Почему-то ему сейчас очень хотелось, чтобы Смит понял все; он и сам не знал почему, разве только, что ему было не по себе от протестов Смита. Но когда и маленький Нури подошел к нему с жалобой, Гордон потерял самообладание.
Читать дальше