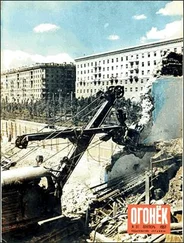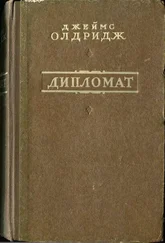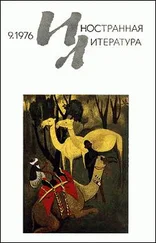Сеид, обросший седой щетиной старик, ненавидел все, что исходило из мира неверных, а пуще всего — христиан и машины. Он был приставлен к Хамиду его отцом в качестве наставника в истинной вере и ревнителя ее заветов, и он требовал, чтобы нефтепромыслы были уничтожены, а исчадие шайтана — машины — преданы огню за осквернение законов бога и пустыни.
Таким образом, из ближайшего окружения Хамида двое, его брат и сеид, с особенным, фанатическим упорством старались склонить его к решению о захвате нефтяных промыслов. Уже не первый раз цели их совпадали, хотя интересы были разные, и служитель аллаха в своей жажде влияния и власти больше надежд возлагал на Саада, чем на Хамида. Было совершенно неважно, что сеид хочет овладеть нефтяными промыслами, чтобы разрушить их во славу религиозной идеи, а Саад связывает с ними корыстные расчеты. Хамида не интересовало ни то, ни другое. Но приходилось идти на компромисс с этими двумя людьми; такова была цена мира и согласия, плата за то, чтобы избежать распри, опасной для дела, которому он был предан. Поэтому он не мог вступать с ними в спор, и влияние их было велико.
Гордон и того и другого презирал, но ради Хамида должен был внешне относиться к ним с уважением. В свою очередь он — англичанин, неверный, да к тому же близкий друг и советник Хамида — был для обоих фанатиков бельмом на глазу. Особенно теперь, когда он не щадил усилий, чтобы отговорить Хамида от нападения на нефтепромыслы.
Ускользнув от Саада и старика, Хамид сидел и смотрел, как его придворный брадобрей трудится над лицом Гордона. Он не сводил глаз со своего английского брата, размышляя о трудностях этой последней задачи, стоявшей перед ними обоими, — задачи, решение которой должно было завершить их сложный путь. Но внешне все это выразилось у него только в пожатии плеч, словно говорившем о покорности судьбе; и Гордон вдруг понял, что Хамид вообще не хочет никуда двигаться, не хочет действовать. Он угадал мысль Хамида: нельзя ли остаться на месте, не предпринимая ничего?
Но тут, словно желая опровергнуть эту догадку и показать, что какие-то намерения у него все же есть, Хамид завел речь о нефтепромыслах и под конец сказал хмуро и озабоченно:
— А не пора ли мне отказаться от твоей помощи, Гордон? Зачем взваливать на тебя бремя чужого горя, нашего горя? Ты и так уже много сделал для нас, брат. Ступай в глубь пустыни. Возьми с собой моих соколов, мое охотничье ружье. Ступай на вольные просторы, которые ты так любишь, и там дожидайся, когда я свершу это последнее дело и завоюю свободу племенам.
Гордон был удивлен и задет, но не в той мере, как он старался показать. Или — что точнее передает тонкости арабского этикета — не в той мере, как он старался не показать.
— Хамид, я служил тебе восемь лет, так неужели теперь, когда настал решительный час, ты со мной расстанешься, только чтобы избавить меня от необходимости выбора? Ты хочешь помочь мне, хочешь, чтобы мне не пришлось участвовать в захвате этих промыслов, принадлежащих англичанам?
— Может быть…
— Ты настолько неуверен в моей преданности делу?
Хамид покачал головой. — Я в ней вполне уверен, любимый брат мой. Потому-то я и предлагаю тебе отправиться на охоту.
Но Гордон отказался наотрез и снова стал отстаивать свою точку зрения: даже если захват промыслов имеет некоторые стратегические и политические преимущества, глупо думать, что англичан удастся застать врасплох. И во всяком случае, чтобы с ними справиться, потребуется гораздо больше времени, чем на разгром Азми, песенка которого все равно уже спета, поскольку в Бахразе не сегодня-завтра вспыхнет революция. А когда с Азми будет покончено, англичане охотно пойдут на соглашение с Хамидом. Но Хамид еще колебался, и тогда в разговор вступил Зейн — тот бахразец, которому Гордон указал сюда путь.
Хотя эмир — это все-таки эмир, и Зейн для Хамида был всего лишь одним из многих революционеров, которых он привык слушать терпеливо и с неустанным вниманием, маленький бахразец своим сходством с Гордоном невольно внушал ему симпатию и даже уважение. Но трудно было вообразить двух людей более разных. Хамид под сенью шатра из козьих шкур являл собой совершеннейший образец благородного типа людей пустыни; зато Зейн с его будничными ухватками горожанина, одетый в рабочую куртку и штаны цвета хаки, казалось, только по какому-то вопиющему недоразумению мог очутиться в этом кочевом жилье. И все же Гордон, наблюдая их со стороны, чувствовал, что даже эта нескладность Зейна говорит о его силе — силе человека, который всюду, к досаде других, остается самим собой; потому-то ему и далась так легко эта дружеская короткость с вождем племен.
Читать дальше