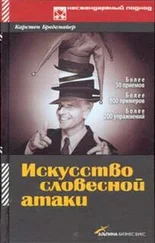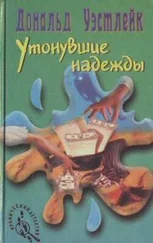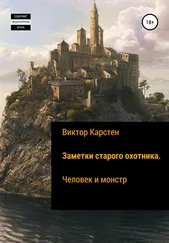В этом полуденном пекле вид его пробуждал во мне самые разные чувства. Я ощущал страх и панику, удивление и злость. В какой-то миг чуть не пожалел его. Но сострадание уступило место презрению. Я встал и подошел к рундуку. Будто по дьявольскому наущению, схватил Джима за волосы и помахал им в воздухе. И угрожающе надвинулся на мужчину, который когда-то был моим отцом.
«Папа тру» так и сидел в пыли. Между его ногами на песке расползалось мокрое пятно. В страхе он утратил контроль над мочевым пузырем. Дети жались к нему. Знал бы я их язык, крикнул бы, что такой жалкий отец им ничем не поможет. В дверном проеме показалась их мать. Большая, тучная. Глаза округлились от ужаса, как у детей.
Я положил Джима на место и взял рундук под мышку Приложил палец к козырьку и пошел по дороге. Первые шаги я проделал спокойно. А затем побежал. И на бегу чувствовал, как из глаз льются слезы.
Туземцы настороженно провожали меня взглядами. Я нарушил полуденную тишину.
К Лаурису при виде моей спины, должно быть, вернулось мужество. Позади я еще раз услышал звук его голоса.
— Мои сапоги! — прокричал он.
Я не обернулся.
Я никогда больше не видел отца.
* * *
Я прибыл обратно в Хобарт-Таун, где началось это проклятое путешествие, в которое мне вообще не следовало отправляться. Встречу нельзя было назвать радостной. А чему можно радоваться в этом мерзком городишке?
Но здесь все началось. И здесь все должно было закончиться.
Я пошел в «Надежду и якорь» поздороваться с Энтони Фоксом. А когда вышел оттуда, хозяин был разукрашен во все цвета радуги. Так я поставил точку в этой истории.
Фокс мне не обрадовался, хотя изо всех сил старался это скрыть. Да и то сказать, причин для радости не было, я же для него как бы из мертвых восстал.
Я, как и Энтони Фокс, никогда не забывал долгов. Так ему и сказал. И он стер со своей рожи фальшивую улыбочку и схватился за револьвер, который прятал за латунной стойкой, самой красивой в Хобарт-Тауне. Но я сразу просек его движение, и я был быстрее. Кончилось все в комнатке за баром. Он успешно отбивался. Опыта ему было не занимать, еще в тюрьме он научился всяким грязным приемчикам. Но мой удар был сильнее, потому что я был моложе и крупнее. В итоге я завалил его на пол. Там ты и останешься! Я продолжал бить его даже после того, как он сдался. Меня понуждала ярость.
Сломав ему последнее ребро, я произнес:
— А это — привет от Джека Льюиса.
Не потому, что я что-то задолжал Джеку Льюису, а потому, что долги надо отдавать. Мы оба стали жертвами одного мошенника. Ружья туземцам на острове «свободных людей» продал Энтони Фокс, и, называя имя Джека Льюиса, он понимал, что живым мне не вернуться.
Что там у них с Джеком Льюисом произошло, не знаю. Только мне все равно. Один был не лучше другого. Льюис, может, даже хуже, и Фоксу наверняка было за что мстить.
Но он играл моей жизнью. Моя смерть была всего лишь бонусом в его игре. Потому между нами повис неоплаченный долг. На самом деле — два. Я задолжал ему за джин с прошлой нашей встречи, когда он отправил меня в путешествие, которое должно было стать для меня последним. Уходя из «Надежды и якоря», я швырнул монету в его разбитое лицо.
Когда-то я думал, мне что-то откроется, если я найду своего «папу тру». Но нет. Я не поумнел.
Всего лишь заматерел.
Лишь через много лет до нас опять дошли вести о Лаурисе Мэдсене. Альберт ничего не рассказал матери, и все сошлись на том, что так оно будет милосерднее. Когда вернулся Петер Клаусен, она уже умерла. Каролина Мэдсен так и не узнала, что случилось с человеком, по которому она напрасно тосковала столько лет.
Петер Клаусен — последний из Марсталя, кто видел Лауриса. Он был сыном Малыша Клаусена, того самого, что участвовал в битве в Эккернфёрдской бухте и попал в плен вместе с Лаурисом. Маленький Клаусен впоследствии стал лоцманом и переехал на юг, где возвел над своим домом на Сёндергаде деревянную башню, чтобы следить за приходящими и уходящими судами, которым могло потребоваться его знание местных вод.
Петер Клаусен прибыл на Самоа в 1876 году. Он дезертировал с корабля вместе с еще одним моряком и вступил в связь с туземкой. Поначалу казалось: жил не тужил, ел себе малангу и в ус не дул. Но когда наткнулся на Лауриса, то понял, как скверно все может обернуться, если забудешь, кто ты есть. Лаурис полностью изменился после немецкого плена. Годы не прибавили ему учтивости, напротив, он стал еще более неловким, странным и окончательно замкнулся в себе, что бы там у него в голове ни происходило. Он пристрастился к местному пальмовому вину. И потому частенько проводил время, укрывшись в кроне кокосовой пальмы. Сидел там с мачете, пилил ствол, выпуская сок. Ему приходилось прятаться. Пальмовое вино на Самоа в те годы было под запретом. В конце концов Лаурис превратился в чудаковатое подобие обезьяны, его не уважали ни свои, ни туземцы, среди которых он поселился.
Читать дальше