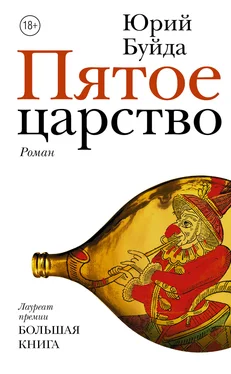Неделька-другая тянулась за неделькой-другой, и просвета не было видно.
Домой я возвращался часто за полночь.
Домоправитель Олаф несколько раз намекал, что в доме происходит что-то неладное, и даже в мое отсутствие пригласил отца Василия из Сошественской церкви, чтобы тот изгнал бесов, но мне было не до того.
А потом, когда жизнь начала мало-помалу возвращаться в привычную колею, я тоже стал замечать необычные мелочи, не сразу бросавшиеся в глаза. Это были иногда даже не факты, а ощущения.
То мне казалось, будто я сам поставил теплые домашние туфли у входа в спальню, хотя твердо помнил, что снял их перед отходом ко сну и оставил у кровати. То чудилось, что в вазе к вечеру стало меньше яблок, хотя я не прикасался к ним. А то мнилось, что ночью, когда я крепко спал, на меня кто-то смотрел, низко склоняясь к моему лицу…
Все чаще я думал, что у меня начала развиваться болезнь, которую греки называют παράνοια, как вдруг все прояснилось самым прозаическим образом.
Рядом с моей спальней был устроен нужной чулан, где всегда горела свеча и стояло кресло, под которое Олаф подсовывал ведро – на тот случай, если среди ночи мне вдруг приспичит.
Возле этого кресла мы и встретились.
В первое мгновение я решил, что передо мной существо из моего сна, но когда оно поклонилось и попыталось выйти, я схватил его за волосы, выволок в спальню, бросил на пол и наступил на его тощую грудь ногой.
Разумеется, его надо было убить – убить немедленно, без разговоров, как я поступал с теми его собратьями, с которыми бился на Красной площади.
Но я не сделал этого в первое мгновение, а второе недаром называется мгновением трусов и философов.
Он лежал на полу такой тихий, такой покорный… он не молил о пощаде, не кричал и не плакал – он только смотрел на меня и дрожал… он был существом невинным в высшем смысле – у него не было ни сердца, ни души, и при этой мысли мне вдруг стало не по себе…
Я не стал убивать его.
Он стал моим домашним животным.
Итальянские живописцы любят изображать на своих картинах – где-нибудь в углу, внизу или вверху, с краю – пухлых и кудрявых маленьких детей с крыльями или без, шаловливых или задумчивых, главная задача которых – умилять, не привлекая к себе внимания. Их называют putto (мальчик) или amoretto (амурчик).
Мой гомункул не был ни пухлым, ни кудрявым, зато умел молчать и не привлекать к себе внимания. Он хорошо прятался от слуг и никогда мне не докучал.
Откуда он взялся?
Не знаю.
Может быть, он был одним из тех, кто уцелел во время бойни на Красной площади, удрал с поля боя, нашел какую-нибудь щель в заборе и спрятался в моем доме, а возможно, он родился в лаборатории Конрада Бистрома и сбежал от убийц, пришедших за его несчастным хозяином…
Поначалу я не оставлял мысли о том, чтобы избавиться от него, и придумывал способы один другого страшнее и глупее, но потом махнул рукой на него, а вскоре и привык, как привыкают к кошке или собаке.
Трудно было сказать, сколько ему лет, о чем он думает и думает ли вообще. Когда я размышлял вслух, он кивал или покачивал головой, словно понимая, о чем я говорю. Лицо его было почти неподвижным, движения неспешными.
Ростом он был с двух-трехлетнего малыша, но взгляд, вертикальная морщинка на лбу и складки у губ выдавали взрослого человека. Он ходил в рубашке, штанах, никогда не мылся, но не источал неприятного запаха. Точнее, он вообще не источал никаких запахов. Однако тело его было теплым, как у человека, хотя он и был андрогином, бесполым существом.
Казалось, он все понимает, когда я рассказывал ему, почему после смерти Юты так и не женился, о птичьем когте на моей правой руке, серебряной монете с надписью «Amor Puer» на реверсе и стальных зубах, которые до сих пор исправно служат мне, когда я грызу говяжьи кости…
По нему нельзя понять, устал он или бодр, весел или печален, наконец – видит ли он сны, но когда я заглядываю в его глаза, на меня нисходит покой.
И через десять, и через двадцать, и через тридцать лет он выглядел в точности так же, как той осенью 1622 года, когда я увидел его впервые.
Незадолго до своей кончины Ангел прислал мне письмо, в котором каялся и рассказывал о сотрудничестве с глумархом, царем скоморохов, которому он помогал в лаборатории, где было налажено поточное производство гомункулов и прочей нечисти. Среди прочего он поведал о том, как Жуть-Шутовский дрессировал гомункулов, заставляя их изображать смех. На это уходило очень много времени и сил, но в конце концов эти существа научились корчить рожи, как медведь выучивается танцевать, а собака – ходить на задних лапах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу