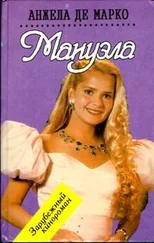Я не утверждаю, что мои пальцы похожи на эту франкенштейновскую руку. Но они уже неделю как чужие. Толстые, неуклюжие сосиски. Приходится вцепляться в них ногтями, чтобы заставить хоть что-то почувствовать. Ночные прогулки в туалет по пять-шесть раз не помогают. Отеки с пальцев не сходят. Рисованию конец. Кисточка врезается в ладонь, вместо того чтобы накладывать цветные пятна, утыкается в шелк. К тому же с меня сползают трусы. Кривизна живота достигла критического уровня. Пришить к трусикам бретельки? Купить панталоны под шею?
* * *
В спальне чищу пылесосом репродукцию Ротко «White and Greens in Blue» [109] «Белое и Зеленое на Синем» (англ.).
. Согласно воле художника, я воспринимаю картину как врата, а не как украшение. Протираю тряпочкой репродукцию двери: зеленые и белые прямоугольники на синем фоне. Ротко наиболее убедительно нарисовал Переход на Другую Сторону.
«Меня интересует только выражение элементарных эмоций, — писал он, — отчаяния, экстаза, смирения с неизбежным, а тот факт, что многие зрители волнуются и плачут перед моими картинами, доказывает, что мне удается эти чувства передать».
И в самом деле, на меня очень действуют эти его абстрактные двери картин. Они сентиментальны, насколько могут быть сентиментальны цветные прямоугольники. От них исходит поэзия «штетла» — местечка, — но не столь многословная и на грани кича, как шагаловская. (Шагал, Ротко, Сутин бежали из восточноевропейских местечек на Запад.) Париж не пошел Шагалу на пользу, он смешал еврейскую поэтичность с западной легкостью. Слишком много у него летающих невест, накачанных воздухом французской любви. Сутин тоже покинул свое белорусское местечко и перебрался на Запад. Однако он не поддался воспоминаниям, окрашивающим прошлое в цвета детства. Сутин обеими ногами стоял на земле, держась за развешанные в мастерской мертвые туши. Художник упорно изображал мясо поэтической плазмы и ее сладковатые аллюзии, возносящие трупы к райским вратам.
Нью-йоркскому Ротко (Ротковицу) ближе трепещущий перед тайной бытия Сутин, нежели Шагал. Из латышского гетто он добрался до Америки. Смешал хасидскую мистику и функциональную геометрию Нового Света. Прямоугольные небоскребы и деревянные халупки, горящие желтым пламенем свечей. Сквозь его абстрактные, современные картины просвечивают запыленные окна местечка, из-за которых доносятся молитвы и поучения раввина: «Не изображай ни Бога, ни человека». Поэтому абстрактность Ротко — выражение не веры, но ее исповедания.
Он не пользовался линейкой. Разорванные прямоугольники и квадраты прорастают у него из фона, демонстрируя органичность метафизики. Ее пантеистическое срастание с миром видимого. Без той холодной черты, что разделяет Создателя и его творение. Картины Ротко излучают теплый свет понимания. Если свет как таковой и геометрические формы могут быть выражением чувств, то живопись Ротко не так уж отлична от смиренной мудрости Рембрандта и вопля Бэкона, удушающего человека в клетке. Их картины об одном и том же — Неназванном, а следовательно, Неисповедимом. И причиной тому не страх, а мистическое бессилие.
Мистик, утративший свое видение, опускается на землю и не находит там адекватного слова, образа. Еще мгновение назад одаренный сверхчеловеческой способностью выйти за пределы чувственного мира, он возвращается в камеру тела. Можно выкрикивать из нее темные поэтические слова или протягивать израненные руки сквозь прутья телесной решетки, пытаться рисовать на стене дверь, ведущую к настоящей свободе. «Картина — не украшение, но врата». Ротко нарисовал много переходов и туннелей. Мой выход — «коричневый и зеленый».
13 февраля
Боюсь ли я родов? Они представляются мне столь же реальными, как рождение через пупок. Мне даже стал нравиться живот. Он занимает половину меня. Он такой беспомощно-новорожденный — с этой своей бесформенностью, складками на бедрах. Лысый, сжавший во сне глазик пупка. Петушок щелкает «кэноном» — я на фоне голубой стены в гостиной.
— Документация, — объявляет он.
Религия: «Кэнон» по-японски — Будда Милосердия. Щелк-щелк, фотографические мантры.
Смотрим новые серии «Городка». Из этого получилось бы настоящее довоенное кино. Большинство польских фильмов и сериалов похожи друг на друга. Другая эпоха.
Я выхожу из комнаты — не могу смотреть на фокусы нашей Звезды. Она порезала текст, поменяла местами сцены. Решила, что она тут главная — может подписывать документы, брать на себя чужие роли. Набор глупостей, прикрытых прелестной улыбкой. Ну что ж, она красива, чудесно играет, но… Возможно, я научусь быть более снисходительной, когда Поля изрисует мою картинку, а я, вместо того чтобы надавать доченьке по попке, растроганно поцелую ее грязные лапки.
Читать дальше