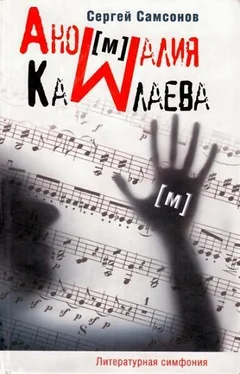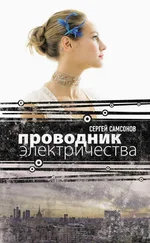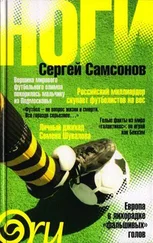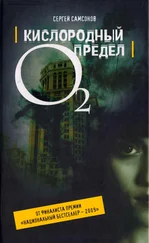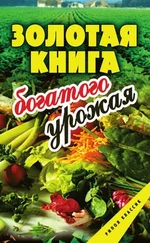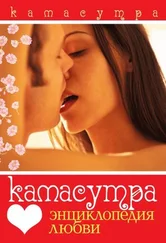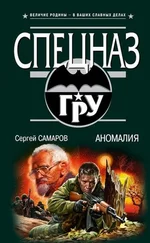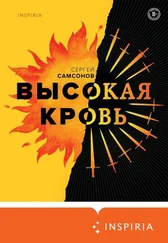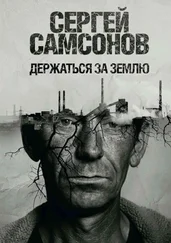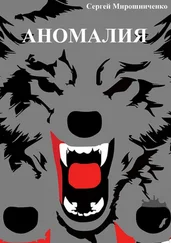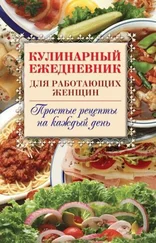Под этой агитационной вывеской сличения двух враждебных миров Камлаев и выступал. И назначен он был, разумеется, тем мальчиком, который лучезарно улыбался. При подготовке к выступлению на международном конкурсе исполнителей в Брюсселе он вдруг проявил неожиданное своеволие: несмотря на ропот педагогов, предпочел начать свою пианистическую карьеру с тех произведений, какими ее обыкновенно заканчивают. Перебирая головоломно сложные сочинения, остановился на первом фортепианном баховском концерте. Он искал свободы, партитура концерта № 1, d-moll, которую он открыл, была совершенна, как расписание железных дорог, и поражала тотальной предзаданностью. Абсолютная предсказуемость во всем. Предзаданность подъемов и спадов, нарастания и затухания. Но — бог ты мой, честное пионерское! — какая возмутительная, непристойная случайность беззастенчиво врывалась вдруг в изначальную размеренность и упорядоченность! До какой неузнаваемости все преображала! И свобода эта, внезапная и негаданная, напрямую зависела от усилий камлаевского ума, от напряжения камлаевского слуха. Он должен был эту свободу расслышать, уловить, схватить. Поймать тот момент, когда начнут возноситься к небу пронзительно чистые детские голоса. Голоса, которых нет и которые не предусмотрены партитурой, но которые как будто возникают в силовых полях между сыгранными аккордами и растут, нарастают, поднимаются стеной, пока и ты, и весь мир — до самых дальних акустических горизонтов — не наполнятся этим бессмысленно-сладостным пением. И о чем они поют — бог весть. Ясен пень, что молитва, но от всего церковного Матвей был от рождения отрезан.
В этом пении не было места ни страху, ни унынию, ни отчаянию. Высокие детские голоса не выпрашивали, не канючили, не вымаливали, не вымогали. Никакого «дай» и «помоги» в этом пении не содержалось. Но вот то, что это пение не обладало ни одним из свойств земной молитвы, не укладывалось в голове. Это не было благодарением; никакой обращенности снизу вверх, с возведенными горе очами, в этом пении не было и в помине — вот что поражало. Как будто никто и не обращался ко Вседержителю, а словно говорил о самом себе. Ведь ни Бог, ни Вседержитель, ни стихийный гений природы не может восхвалять и славить сам себя. Тогда что же это выходит? — Камлаев совершенно съезжал с катушек, и кружилась с легким звоном опустевшая его голова — эта музыка, это ангельское пение и есть сам Бог? Если что-то человеческое, просящее, обращенное снизу вверх, и было в этой музыке, то всего лишь один суровый рефрен, всего лишь одно скупое четверостишие, одно-единственное «подай» — то самое, что Матвей недавно вычитал в томике Боратынского и теперь вот припомнил. Как раз там, где пятерку заныкал между двумя слепившимися страницами, которые, похоже, до него никто не разлеплял.
Царь небес, успокой
Дух болезненный мой.
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.
Много думал он о пении, всеисторгающем радость и покой, и о единственно возможной человеческой фразе, что была не оскорбительной для этого пения…
К тому времени его уже вывозили за границу — как вывозят, должно быть, в клетке какого-нибудь редкого зверька, занесенного в Красную книгу. Появился в его жизни некто Дорохов, высокий блондин с щегольскими, косо подбритыми бачками и блекло-голубыми, по-рыбьи непроницаемыми глазами навыкате. Нечто среднее между надзирателем и телохранителем. Этот Дорохов ловко носил английские костюмы и незаметно, где-то на самом краю Матвеевого восприятия, вел все его, Матвея, зарубежные дела. Могуществом он обладал поистине безграничным; от всех пассажиров Камлаев неизменно находился немного, но отдельно: все желающие с ним познакомиться, поговорить иностранные коллеги, журналисты всякий раз до Матвея не доходя, как будто утыкались носом в невидимую стену, и это при том, что маячивший где-то на самом краю, неприметный Дорохов не совершал, казалось, ни малейшего пресекающего движения.
Камлаев порой начинал испытывать потребность в открытом неповиновении: его голод по части музыкальных новаций оставался неутоленным, и все, что могли ему сообщить, не достигало слуха, как если бы уши ему заткнули ватой. Парадоксально, но в своем отечестве он был гораздо более информированным, нежели за границей, где все пространство было просквожено радиоволнами общедоступных новостей. Там, в Москве, ему были доступны и «Голос Америки», и пластинки «Жучков», а здесь — сплошная немота и отчего-то кажущиеся беспросветно тупыми иностранцы с беззвучно хватающими воздух ртами. Да и чтение газет, журналов тоже было сведено к оскорбительному минимуму — лишь какой-то бред о забастовках английских рабочих да заголовки под статьями о собственно Матвеевых выступлениях, имевших место сутки и более назад.
Читать дальше