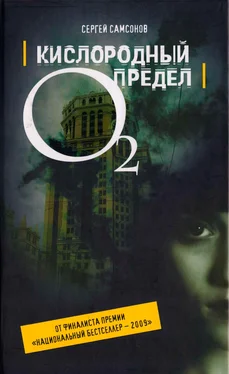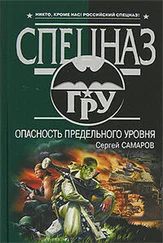Сергей Самсонов
Кислородный предел
К смерти готовились так, как зародыш готовится к жизни. Еще не ведая, уже не зная, какая сила их толкает в горячей тесноте единственного входа — не то на волю, избавляя от удушья, в открытый космос внешнего, земного мира, не то назад, но тоже к избавлению, к свободе не быть, прекратиться, исчезнуть в мягкой вечности утробы. Но, ничего уже не понимая, они инстинктивно знали, что делать, и были мудрее, упорнее, необоримее, чем когда бы то ни было. Смирившись и сдавшись, лезли и выкарабкивались. И вот теперь, когда продрались, протолкнулись, перешагнули через распростертых современников и вышли из огня и чада невредимыми, все вместе, во все глотки заорали, и не то это был негодующий рев, заявление о нестерпимости новой среды, о несносности климата вне материнского брюха, не то яростный вопль величайшей на свете признательности: кто же знает, что звучит на самом деле в первом крике младенца — протест против жизни или все-таки благодарность?
— Роди меня обратно, мама!.. — хохочет один, размазывая слезы по закопченному лицу.
Другой бесперебойно фонтанирует сакральными словами, в восторг все больший приходя от повторения, — ребенок, ошалев от безнаказанности, выводит маму из терпения ругачкой, принесенной с улицы. А третий упивается той новой степенью неуязвимости, свободы, на которую пока что не умеет отозваться, и потому ни звука не выходит из его распахнутого рта. Четвертый — с перекошенным не то от страха, не то от ликования лицом — назад вдруг почему-то начинает рваться, навстречу мощному потоку спасшихся, как будто остановку проворонил в битком набитом транспорте, как будто в туалет без очереди — так скрутило, — но держат его, не пускают, вдвоем повиснув на плечах:
— Да стой ты, придур, стой — куда? Все! Нет там ничего, а ты живой, живой!.. Да слышишь — нет?..
— Там выход, там, а ты куда?.. Да стой, сказал! Туда дышать, туда на воздух — слышь, очнись!
И по ушам его, вернули в чувство, оглушив; отшибли память, возвратив к реальности; встряхнули, потащили за собой.
— Смотри, чего с людьми — совсем дурак!
Их где-то пятьдесят — шахтеров из забоя, рабов из рудников, хрипящих, прокопченных, харкающих, с глазами, красными от дыма, и в тлеющих тряпках «хороших» костюмов; с багровыми ожогами, похожими на пятна свежего припоя, и сединой, похожей на строительную пыль. На лицах что у них? Да разве окажешь? Дрожат непроизвольным тиком, трепещущим светом восторга безжалостно освещены, как у ступивших за пределы специальной клиники, как у вышедших в люди дебилов. Опять же — что же можно на лице младенца прочитать, на физии кретина, когда мимические мышцы у него в зачатке, не развиты, не вышколены? То ли морщится он, изготовившись к ору, то ли щурится от ровного жара материнской любви, готовый признательно закурлыкать.
И вот уже встречают, принимают их, подхватывают под руки спасатели, пожарные в зеркальных, теплоотражающих комбинезонах, ведут, передают стерильно-голубым врачам для оказания телячьих нежностей: тех, кто едва стоит, кто к обмороку близок, — скорее на носилки; кто в эйфории, в пляске Витта извивается, — того, железными объятиями сковав, насильно обучают заново всем нормам пешеходного движения — вот так, вот так, неспешными шажочками, не оседай назад, иди, иди, все кончилось, все будет хорошо, вы слышите меня. Не слышит, порывается назад, глазами шарит в пустоте, напрасно тщится отыскать своих, потерянных; другой, такой же, третий… — их держат, швы трещат, нужны уже не сестры и не братья даже — санитары: непросто усмирить таких разбушевавшихся лосей, тут током надо, не иначе — пустить разряд по мириадам нервных сетей, поджарить, запечь слишком буйную кровь в раздувшихся от выброса адреналина жилах.
И вот они уже стоят — антивосставшая толпа, надежно отделенная от пламени и дыма тройным кордоном из спасателей, спецназа, санитаров, — и смотрят не мигая, ненавидяще, молитвенно на зарево до неба, на «Красные холмы», на башню в тридцать этажей, увенчанную чашей словно олимпийского огня, на прыгающий поплавками в черном небе квартет вертолетов, которые беспомощно стрекочут и ходят, как на привязи, как будто подчиняясь партитуре, не в силах одолеть неумолимой данности исчисленных звуковысот, пробиться к крыше, к стенам сквозь потоки раскаленного воздуха. На строго симметричные квадратные ячейки исполинских сот глядят, на закопченный, потемневший рафинад фасада; в глазах — у каждого свое: у многих — просветленность (душа так смотрит с высоты на ею покинутое тело), у многих же — неподотчетное глумление, то непристойное, вне действия морального закона чувство, с каким здоровые-нормальные взирают на уродов, имбецилов и калек, со сладким обмиранием, как в глубину бездонного колодца, как в зеркало собственной человеческой природы: ведь мы, нормальные, могли бы быть такими, как они, но повезло, избавил бог, вслепую одарил — не родились, не стали.
Читать дальше