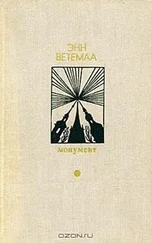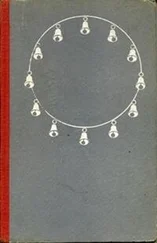Кап-кап, извечный круговорот.
Простота, природа, никакой вычурности. М-м! Смех, да и только. Смех сквозь слезы. Ведь под ногами, на другом конце земного шара, в книжных шкафах, на столах, а может, даже и в уборных — хотя вряд ли, бумага-то глянцевая… шикарное издание, на страницах которого толстопузый сатир с бокалом в руке и развязной ухмылкой вещает нечто, простоте и естественности противоположное.
Теперь перейдем к возлияниям.
Вот сидит он здесь, пристегнутый, как буйный алкоголик, как подонок из подонков, готовый броситься на всех и каждого. Очень может быть, что его не помешало бы привести в чувство холодной водичкой. Выходит, он — горький пропойца? Он не трезвенник — это верно, но меру знает, до сих пор все было в норме. Правда, норму он сегодня принял месячную, а с Вольдемаром — всему виной дурацкая жалость — даже квартальную. Сейчас он восседает здесь, а потом домой придет письмо, может, даже с фотографией, кто знает. Ну что ж! Снявши голову, по волосам не плачут! А в итоге он — невинный козлик отпущения. Ну и утешение: ведь козел отпущения — самое жалкое создание, какое только можно представить!
А его невзгоды… В последнее время даже они были нелепыми, разве у настоящего мужчины такие беды? Все-таки несчастья и неудачи в мире должны бы распределяться равномерно, по знаменитой теории вероятности, — как же иначе? А если так не выходит, вспомни присловье, что дуракам и в церкви не спускают… В чем же, черт побери, моя дурость? Сидишь здесь привязанный, как Калевипоэг во вратах ада или прикованный Прометей…
Он яростно напряг левую икру, напряг с наслаждением, до боли, и почувствовал, как по икре вверх и вниз забегали мурашки. Нашел себе занятие! Покумекай лучше, брат, над своей жизнью, это поумней будет. Прежде времени не было, зато тут самое место!
И снова он расслабил мышцы и попытался напрячь мозги. Зачесался нос, но это придется перетерпеть, для того и распяли. Значит, думай с зудящим носом, главное — думай!
С Вольдемаром все пошло наперекосяк из-за твоей чрезмерной доверчивости. Быть слишком доверчивым — значит быть дураком. Паэранд так и сказал. Это раз.
А пуститься в запой после визита в большой дом — это что? Наверняка слабость. Это два.
А то, что он не стал выяснять отношения с милиционерами, не сумел отстоять свою правоту? Это… это малодушие. Не иначе.
Выходит, Калев Пилль — слабый и трусливый дурак. Так и выходит, ничего не попишешь. Можно ли держать на его месте слабого и трусливого дурака? Может такой человек быть, как говорится, солью земли, просветителем? Вот и оправдайся теперь, что с тобой все складывается не совсем так и что, сложись иначе, и так далее… Факты — увы! — вещь упрямая, и говорят они, что ты сидишь тут, и никаких гвоздей!
Глупый, слабый и трусливый! Заруби себе на носу!
Вспомнилось ему, однако, и другое: разве не уложил он двоих? Так приварил, что вспомнить приятно. И впрямь единственное, о чем можно помянуть с удовольствием. Да, но этого мало. Как ни крути, он все равно тут. Жалкая же у тебя судьба, Калев Пилль! Судьба маленького человечка. И не в сидении за решеткой дело. Корчился в подземелье замка на Вышгороде и тот человек, который написал такие звонкие строки о море и о тоске по нему. Не говоря уже о Джордано Бруно или Яне Гусе! Но ведь это были великие люди! А он — человек, который мнит себя хоть и крохотной, но опорой здания всего общества, и пребывание его здесь глупо, абсурдно, ничтожно. О таких писал Гоголь, писал с легкой насмешкой и большим сочувствием — маленькие чиновники, жалкие канцелярские крысы. Он описывал их со «смехом сквозь слезы», как говорится в школьных учебниках. Все эти горемыки — жертвы своего времени, разъясняют эти книги, — и все миленько становится по местам. А что за человек он?
Как ты там себя окрестил? Опора? Что же ты подпираешь? Что упадет, если ты отойдешь? — спросил вдруг внутренний голос, и Калев (это было досадное чувство) не сумел толком ответить. Ну, делает человек все, что от него требуется, выполняет свои обязанности, значит, и поддерживает что-то, — Калев попытался схитрить, заставить нежданного поборника справедливости замолкнуть, но не тут-то было. А что такое дело твоей жизни? Это… это непременно гора бумаг, речи, перспективные планы, отчеты. Да еще уйма средств наглядной агитации из картона и фанеры. Высокая гора, ничего не скажешь, но… Даже в воображении этот становой хребет поддерживал лишь облака. К тому же ворох этот устрашающе безличен. А вдруг вся его работа — мартышкин труд? Чего прикажете — и ни на шаг в сторону! Дон Кихот бросался на ветряную мельницу — поступок несуразный, но страстный! — над ним, конечно, посмеивались, зато помнят до сих пор. А что останется от усердно собранной Калевом бумажной груды? Вот поднимется ветер…
Читать дальше