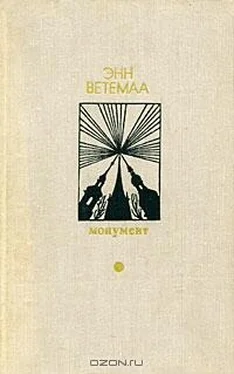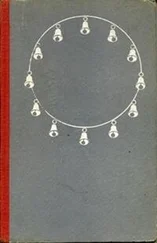Начало накрапывать. Пошел осенний дождь, мелкий, противный. Неба вроде и не было: одновременно с дождем на город опустился вечер, сдвинувший верхние этажи домов по обе стороны улицы. Когда я поднимал голову, мне казалось, что я иду по дну канала, прорубленного в скале. Загорелись одна за другой световые рекламы. Их пронзительные краски мягко расплывались в черно-серой дождевой дымке, стекали каплями на полиэтиленовые плащи, дрожали бликами на раскрытых зонтах.
Я зашел в кафе «Харью».
Увидев Александера, я сразу приуныл. Я не знал, что он и здесь подменяет по выходным дням швейцаров. Александер поднял откидную доску, чтобы выйти из-за гардеробной стойки и помочь мне раздеться. Я попытался опередить его, но поздно: он уже сдирал с меня пальто. Мне стало совсем неважно: костюм у меня был мятый, туфли — расшлепанные. К тому же рвение Александера привлекало внимание — меня обследовала уже не одна пара глаз, оторвавшихся от кофе.
— Как живем? — И Александер оскалил свои прокуренные зубы.
— Да уж чего там… — пробурчал я. — Все по-старому.
Сколько помню, у Александера никогда не пахло изо рта, но все-таки я отвернулся.
— Ну, если по-старому, значит, хорошо! Я — тоже по-старому.
Не слишком ли он подчеркнул свое «если»? Я бегло взглянул ему в глаза, но ничего в них не вычитал. В этих карих, чрезмерно карих собачьих глазах маслянисто мерцало дружелюбие, сплошное дружелюбие. Но я-то ведь, несмотря на все, чувствовал, что все последние годы Александер пристально следил за мной. Сейчас я пойду в зал, а он — я почти уверен — будет жадно глядеть мне вслед, чтобы оценить, насколько изношены мои туфли и насколько забрызганы грязью брюки. Он из всего сделает выводы. На самом же деле вещи-то на мне приличные, только вот не слежу я за ними, совсем не слежу.
Я спустился в зал, который гудел уже по-вечернему. Мне повезло. Женщина преклонных лет выложила на столик восемь копеек за кофе, поднялась и походкой графини направилась к выходу. У нее был точечный ротик, надменно накрашенный кровавой помадой, и шляпа с фантастической вуалью. С плеч ее свисало нечто облезлое, что вполне могло когда-то быть серебристой лисицей.
Я вцепился в освободившийся стул — как раз напротив зеркала — и спросил разрешения сесть. Тощий старик в очках оторвался на миг от тарелки, скользнул по мне недоверчивым взглядом и, засопев, вновь принялся поглощать свое виноградное пирожное. Старик был в грязной синей рубашке с немыслимым ярко-красным галстуком, — он не скрывал, что в восторге от пирожного.
Я достал из кармана газету, но не успел и развернуть ее, как появилась официантка. Длинная робкая девочка, которой прежде я не замечал, — должно быть, новенькая.
Она собрала со стола медяки, прилежно записала мой заказ — кофейник кофе и сто пятьдесят рома, — изобразила улыбку (ей, видимо, сказали, что так надо) и скрылась за шторой.
Зеркало мне мешало. Когда мужчине набегает пятьдесят, в зеркалах радости мало. Я спрятался за газетой и попытался читать. Где-то произошло наводнение, одна англичанка родила пятерых близнецов, а правительства Пакистана и Индии послали одно другому решительные и чуть ли не дословно совпадающие предупреждения. Но мне-то было что?
Я получил свой кофе и ром. Пожиратель виноградного пирожного кинул испуганный взгляд на графин, ухмыльнулся и, как мне показалось, возобновил церемонию поглощения с еще большим достоинством. Вот чудак! Пусть лучше полюбуется на меня, когда я запью всерьез!
Не сегодня, конечно. Только не сегодня.
Я повернул стул чуть боком, чтобы в просвете гардин видеть кусочек улицы. Черный угол банка грозно врезался в туманный пар, как кос океанского парохода: еще мгновение — и он раздавит наш утлый приют утех.
Я снова взялся за газету и начал смотреть, что — в кино. Не пойти ли? Вдруг да сумею попасть на последний сеанс. В кино хорошо: сидишь, живешь чужой жизнью, чужими чувствами, и, что странно, они кажутся тебе куда существеннее собственных. А кроме того, приятно сознавать, что вокруг — тоже люди, что весь этот темный зал, пахнущий мокрой одеждой, думает и чувствует так же или почти так же, как ты. В самом деле, не пойти ли?.. Но при всем при том кино — лишь временное средство, таблетка, действующая лишь в темноте: от света до света. А на лестнице тебя опять настигает действительность, и тем беспощадней, чем лучше был фильм. Мы снова в самих себе и сами с собой. Нам даже чуточку стыдно, что на какое-то время стали так одинаковы, и теперь мы избегаем встречаться взглядом. На вечерней улице единодушная людская гроздь распадается на ягоды, и все разбредаются кто куда, чтобы через десять минут ссориться в очередях на такси и автобус. И так всегда, во всяком случае — у меня.
Читать дальше