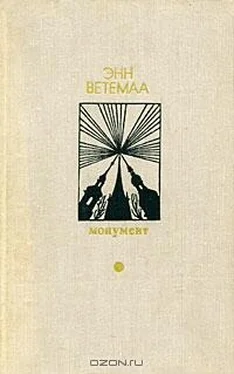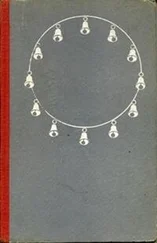— Простите меня, — заговорил я. — Стихотворение это мало чего стоит, согласен, но вы не понимаете, что…
— Понимаю! Прекрасно понимаю! Даже очень, к сожалению!
Голос у него стал тоненьким, как у молодого петушка.
— Военное время — дело одно. Может, солдату и в самом деле нужны «вершины счастья красно-золотые», хоть я в этом сильно сомневаюсь. Но сейчас такие стихи просто не-по-зво-ли-тель-ны! Знаете, Руубен, на протяжении всей истории эстонской литературы не было такого плачевного периода, какой начинается сейчас. И вы способствуете этому! Да, вы, умеющий и лучше и по-другому! Это же предательство! Пре-да-тель-ство! Вот именно!
Как он был зол! Шляпа съехала набок, зажатая в руке трость обрушивалась сверху, словно молния небесная.
— Война еще не кончилась, — прервал я его.
— Да ну? А вот для меня кончилась. И для вас должна была бы кончиться. Если вы хотите стать поэтом!
— Но ведь и стихи, доступные всем…
— Таких стихов не существует! — взорвался он. — А если бы существовали, то никуда не годились бы.
— Ого!
— Что значит «ого»? До войны вы писали вполне сносно. Война, именно война и погубила вас.
Он сказал это с таким упреком и презрением, словно война была женщиной легкого поведения…
— Я надеялся, это пройдет, но нет… — продолжал он. — Опять эти знамена и вершины! Искусство — это не шутки. И вообще… Вот вы вступили в партию, я ничего не имею против партии, но не возникло ли у вас слишком много обязанностей? Поэт прежде всего должен быть поэтом. Ваш талант не так велик, чтоб разбрасываться. Поймите же, Маяковский из вас не выйдет! Если из вас вообще что-нибудь выйдет, так только лирик!
Злоба его прошла. Он стал вдруг печальным и неловким, привел в порядок шарф, поправил шляпу. Неужто же он вправду вызвал меня лишь из-за этого стихотворения? А про собрание даже не заговорит?.. Нет, не заговорил, и я упал духом. В самом деле, могут ли еще продолжаться наши уроки? Нет, не могут, жизнь не позволит. Я воевал, мне тридцать лет, я более или менее признанный поэт, журналист, партиец. Но должен каждую неделю носить Каррику свои стилистические упражнения и сонеты, которые сейчас едва ли напечатают. Нет, я уже не мальчик, наши пути непоправимо разошлись…
Пахло морем. Наверху, на Маарьямяги, играл военный духовой оркестр. Темнело быстро, небо становилось фиолетовым, в гавани замигали огни. Требовательно и протяжно прогудел пароход. Неожиданно над нами воздвигся в темноте силуэт «Русалки», — ее вытянутая рука была длинной и угрожающей. Она стояла, словно регулировщица на перекрестке судьбы, только почему-то не с жезлом, а с оливковой ветвью. Да, наши пути расходятся. Это неизбежно и даже не зависит от нас.
— Сложное время, — сказал Каррик, подумав, видимо, о том же самом, что и я.
Мы вышли на шоссе. Показался «Москвич», ехавший из Пириты, и в нас ударил световой конус фар. Тормоза внезапно заскрипели, и машина остановилась. Дверца распахнулась, и кто-то замахал рукой. Это оказался Рауль.
— Здорово! Ты что тут шпацируешь? Хочешь, отвезу вас в город? — крикнул он мне. Я с вопросом поглядел на Каррика. Тот кивнул, и мы протиснулись в заднюю часть машины.
— Давай кати! На улицу Пикк.
Машина подъехала прямо к парадному Каррика и остановилась у того самого фонаря, который светит сейчас в окно. Мы вылезли, и Рауль что-то крикнул нам на прощание. Мы постояли молча. Рядом с крыльцом росло немного травы, оставшейся каким-то чудом невытоптанной, — при свете фонаря зелень казалась поддельной. «Ведь уже октябрь, — подумал я, — она же наверняка пожухла».
— Может, зайдете, — сказал Каррик. Странно, его голос зазвучал вдруг сочувственно. Он открыл дверь, и я пошел за ним.
Дома он ожил и засуетился. Поставил на газ кофе, выудил откуда-то домашнюю наливку, словом, старался вовсю, лишь бы я освободился от скованности. Таким я еще не знал Каррика.
Удивительно праздничный получился вечер, в своем роде тайная вечеря, хотя мы ничего не ели и я не был Иудой, а он Иисусом. Но какие-то странные флюиды веяли над нами, не могу этого выразить.
Спросив, играю ли я в шахматы, он достал доску. У него были старинные шахматы из слоновой кости, красные и белые.
Мы сыграли две партии. Он выиграл обе за пятнадцать-двадцать ходов и после каждой — терпеливо анализировал мои промахи. Неправильно разыгранное мною начало оказалось гамбитом Кизерецкого, и он сообщил мне, что Кизерецкий был французским шахматистом, родившимся в начале прошлого века в Тарту.
Читать дальше