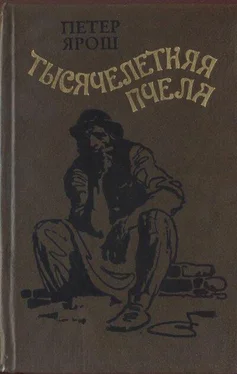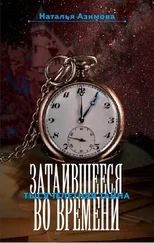Музыканты играли без передышки, и Йозеф с Мартой танцевали. В объятиях украдкой поцеловались. Рахель рванулась было к ним, но Павол и Даниэль удержали мать, и Мария, обняв ее, успокоила. Так продолжалось бы невесть сколько, если бы не влетел в помещение разгневанный Герш, так и не догнавший вора Ошкару.
— Ну хватит! — взревел он на всю корчму таким зычным голосом, что музыканты перестали играть, а Йозеф с Мартой — танцевать. — Повидались, и баста… Хватит с вас, голубочки, хорошенького понемножку! Всем по домам! Спать пора! Закрываю! Конец! Убирайтесь! Вон, вон, вон! — задыхался от злобы корчмарь. И ему тут же сделалось плохо — пришлось опуститься на ближнюю лавку. Это больше всего и напугало музыкантов. Рахель вскрикнула и поспешила на помощь к мужу. Цыгане враз собрали свои пожитки, остатки еды и палинки, смычки, скрипки и побыстрей убрались с глаз долой. Герш испил холодной воды и очухался — разве что непривычно потел. Йозеф и Марта в последний раз легонько дотронулись друг до друга и расстались. Йозеф подошел к дверям, отвесил всем глубокий поклон и удалился.
На дворе его ослепило утреннее солнце. Впереди, громко переговариваясь и спотыкаясь, брели музыканты. Со стороны к нему приближался повеселевший вор и бродяга Ошкара. Йозеф вдруг ни с того ни с сего громко запел и подскочил, запел и снова подскочил. Подскакивал то на одной, то на другой ноге. Сделал стойку и на руках прошел добрый кус пути. Потом упал в пыль и ну кататься, вертеться. Музыканты с Оскаром обступили его. Сыграли ему. Запели с ним. Когда Йозеф Надер наконец угомонился, Ошкара припал на колени рядом и поцеловал его в лоб.
— Спасибо, Йожко, — прослезился он.
— За что? — удивился Йозеф.
— За все, что было в корчме. Я же опять начал есть! Пятнадцать лет не ел, а теперь опять стал есть…
— Ты стал есть? — изумился Йозеф. — Тебе ж достаточно было дышать?!
— Правда, уже ем!
— Как же это возможно, раз у тебя нет ни желудка, ни кишок?
— Нет, есть! Думал нету, а, выходит, есть!
— А не врешь!
— Может, они у меня снова выросли, вроде как зубы! — весело расхохотался Ошкара. — Только нынче я это заметил. Кабы не ты, дорогой Йожко, я бы не забылся и не начал есть… Глядишь еще лет сто так и не знал бы, что желудок и кишки у меня снова выросли. Спасибо тебе, Йожко, дорогой, спасибо! Никогда тебя не забуду. Богато тебя одарю. Самолучшую украденную вещицу тебе поднесу! Истинный бог, тебе одному, и никому другому, тебе одному!..
Ошкара от волнения расплакался, цыгане перестали играть.
— Эй вы! — окликнул Дежо Мренки Йозефа Надера и вора Ошкару. — Айда с нами! Мы задолжали песенку почтенному мастеру-каменщику, уважаемому сельчанину Мартину Пиханде. Помогите нам долг возвернуть!
Йозеф и Ошкара поглядели друг на друга, улыбнулись и согласно кивнули.
Старый учитель Людовит Орфанидес не спеша шагал по саду, который по большей части обихаживал сам. Шагал босой, в брюках, засученных до колен. Прогулка по утренней росе, приятно освежавшей его, помогала разгонять кровь в затекших ногах. Учитель то и дело останавливался, но вовсе не для того, чтобы отдохнуть. Он проверял, принялись ли привои на яблонях, сливах, грушах и вишнях. Его чуткие и все еще крепкие пальцы оглаживали сращения привоев, воск и лыко. Улыбаясь, он тихо разговаривал с дозревающими плодами, а то и бережно, чтоб не сорвать до сроку, брал их в руки. Плоды день ото дня наливались, росли, благоухали, а вот несколько лоз винограда огорчили его — холодная нынешняя весна развеяла все надежды на какие бы то ни было гроздья. Он уже собрался было повернуться к большому, просторному пчельнику, когда услышал игру музыкантов. Порадовался мелодии. Через всю ширь сада видел, как ватага музыкантов с инструментами валит к его соседу — Мартину Пиханде.
— Что за оказия! — ударил он себя по лбу. — А ведь и я обещался Мартину навестить его, посмотреть привои — хорошо ли взялись. А вот молодому Само давеча отказал, право слово, когда он позвал меня взглянуть на пчел. Не нравятся, дескать! А почему?! Матку, что ли, надо сменить? Да ведь я посадил ее только в прошлом году, и еще по весне она была бойкая, здоровая…
Старый, почти семидесятитрехлетний, учитель Людовит Самуэль Орфанидес [9] Стр. 57. Орфанидес Людовит Самуэль (1818–1895) — словацкий ученый-садовод, учительствовал в с. Гибе. Научные статьи о садоводстве публиковал в словацкой периодике 60—70-х гг. И. Богданова .
слыл именитым пасечником и садоводом. По его серьезному, скорей строгому, но в улыбке доброму лицу нетрудно было догадаться, что выпало ему в жизни немало страданий и огорчений, однако не обошли его и всякие радости — семейные, житейские и, паче того, садоводческие: благодаря уму, упорству и вдохновению учитель стал в какой-то мере хозяином природы, чему явно завидовали оба местных священника: католический — Доманец и евангелический — Крептух. Но об этом речь впереди, а сейчас нет большего для нас удовольствия, как описать этого старого, искренне доброжелательного человека, чьим девизом было: «Обихаживай сад — будешь богат». Голова у него большая, круглая, волосы черные, длинные, глаза карие, брови выразительные. Под мясистым, чутким к запахам носу буйствовали усы просветителя. Подбородок крутой, но не выступающий вперед. Роста учитель среднего, тело плотное, крепкое, но не полное. Он и теперь мог без труда наклониться и руками — не сгибая, разумеется, колен — коснуться пальцев ног. С первого взгляда казалось, что он сердит, заносчив, да и слишком строг. Посмотрите-ка на его руки: он их то нервозно сжимает в кулак, то заламывает за спину, то сует в карман. А лицо его? Откуда взялось в нем презрение? Да ведь на самом-то деле — ничего подобного! Он вовсе не сердит — это лишь нетерпение; и совсем не заносчив, не строг — это обычная его требовательность, и только! А отчего он столь часто сжимает кулаки? Да потому, что руки у него замлевают. Почему засовывает их в карман или заламывает за спину? Да оттого, что в карманах их согревает, а за спиной охлаждает, да и потом движения его рук сопутствуют напряженной работе ума. И вот этот оратор, поэт, философ, пасечник и садовод тут-то и решил: «Навещу-ка я своего доброго соседа Мартина Пиханду еще сегодня, именно — сегодня, немедля, потому как там играет оркестр и, верно, без конца разговоров, а музыку и разговоры я очень люблю». И он, допрыгав босой до скошенного травяного жнивья, стал уже откатывать брюки, собираясь заглянуть в пчельник, чтобы натянуть на ноги теплые носки и ботинки, когда над ним раздались знакомые голоса.
Читать дальше