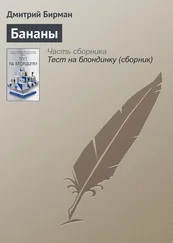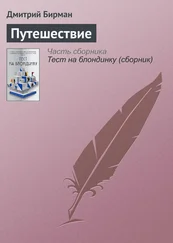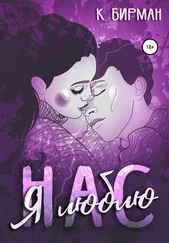— До завтра, спокойной ночи.
Ветер снаружи, темнота внутри дома, напряжение и ожидание, тишина, ночь.
— Там что-то скребется за стеной, мне страшно, — сказала она, постучавшись через несколько минут в его комнату. Она была закутана в одеяло, — и холодно, — добавила мрачно, чтобы он не посмел принять жалобу за кокетство.
Он чуть было не объяснил ей, что источник скрежета — дерево, которое на ветру трется ветвями о наружную стену, но вовремя прикусил язык и уже уверенно солгал, будто одеял у него больше нет. Всмотревшись в нее, он указал на свободную половину своей постели таким жестом, будто это был надувной матрас в походной палатке.
Она поколебалась, а потом напомнила, опять кратко:
— Обещано.
Он согласно кивнул, и она легла. Они объединили одеяла, но она тут же откинула их, выпрыгнув прямо в его домашние тапочки.
— В туалет, — мирно объяснила она.
Ее шлепанье в великоватых даже для него самого тапочках показалось ему таким вызывающим и таким злонамеренным, что возникшего в нем вожделения хватило бы, кажется, чтобы „обесчестить“ тапочки, раз уж ей самой он сдуру наобещал быть сдержанным.
Она вернулась совсем озябшей, и он предложил ей согреть спину. Она решительно въехала в него позвоночником, и он даже обнял ее тонкие ребра правой рукой. Только бы не коснуться случайно груди, успел лишь подумать он, как большой палец дернулся в конвульсии, уперся в ее грудь и вернулся на место. Он замер, ожидая реакции и оценивая встреченную упругость. Она резко повернулась к нему — в его болтающейся на ней и при повороте задравшейся на животе белой рубчатой майке с широкими шлейками. Он осторожно перевернул ее на спину, опираясь локтями в матрас и следя, чтобы она чувствовала себя свободно. Под левым локтем обнаружилась добравшаяся чуть не до самой обивочной ткани пружина, а правым он прижал майку. Она заметила и то, и другое, и засмеялась двум тюленьим движениям, одним из которых он освободил край майки, другим — избавился от капкана пружины.
Она так и осталась в майке, собравшейся в складки над аркой ее ребер, когда они уже превратились в любовную композицию. Стало тепло под двумя одеялами, и даже испариной покрылась кожа ее наивного живота. На отбеленном влажным севером лице он менял касаниями губ расположение упавших на глаза прядей волос цвета согревшегося на солнце песка. Тогда она приоткрывала глаза, но взгляд, видимо, немного близорукий, был направлен внутрь себя, позволяя ему не таясь любоваться переходами оттенков радужной оболочки глаз. Когда пересыхали ее губы, тонкая нежность которых вызывала страх перед прикосновением к ним, он успевал огорчиться этому прежде, чем она закусывала нижнюю губу и затем возвращала ее уже опять горячей и влажной, передавая во время рывка тела часть ее влажного блеска другой, верхней.
Будто колыхался теплый туман и булькали горячие гейзеры. Напряжения худенького тела сменялись расслаблениями, словно мучительными извивами текли и исчезали в расплывшейся дали нервные воды узкой реки.
Наконец, будто хлопнули, взорвались частью разом, а частью по очереди полторы дюжины воздушных шаров. Горячий белый шоколад (не холодно-равнодушная сметана!) пролился на только-только дозревшую землянику. Какая она размягченная и взъерошенная!
— Теперь мы совсем родственные души? — настежь открылся один глаз, пока веко другого подрагивало, борясь с челкой.
— Конечно! — ответил он, откидываясь на свою половину постели.
— Ты это тоже вставишь в повесть?
— Я пошутил, я не пишу повестей. Я шахматист.
Она сорвала с себя майку и отхлестала его. Он отвернулся.
— Эй, ты куда? — она постучалась пальцем в его плечо, словно в запершуюся на несерьезную защелку душу.
— Никуда, — ответил он, повернувшись и оказавшись с ней лицом к лицу, — это ловушка, и ты в нее попалась.
Молчание.
— Ты почему затаилась? — спросил он самым добрым и доверительным тоном.
Еще молчание, потом, наконец, смех. И снова. Теперь без майки, весело, с барахтаньем.
Он представил себе, засыпая, как проснувшись утром, почувствует ее худенькую спину, но пробудившись, обнаружил только лежащее на соседней подушке написанное на желтом квадратике из стопки бумаги для заметок стихотворение, которое называлось: „МНЕ ПОРА“. Оно было явно сочинено наспех, но в нем, как и в том, что он слышал вчера, не было бездымного женского горения.
Тяжеленный самолет,
Деву юную не ждет:
„Зазевалася, дуреха?
Плохо это! Очень плохо!“
Читать дальше