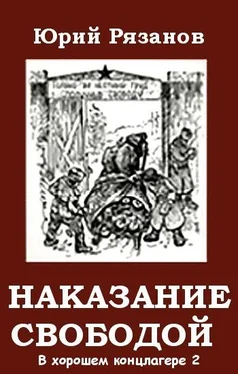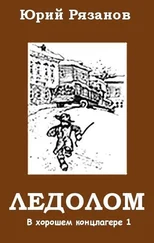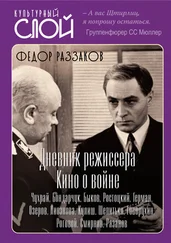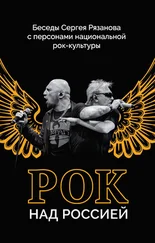— Дядя Паша, ты Колчина Алексеем окрестил, а ведь он вроде как Александр. Помнишь, Маслов его Александром Егорычем величал?
— Какая разница, Иван он Александр ли. Помер — и нет его. Как не было. Слыхал: помер Максим, и хуй с ним.
— Человек всё же, — возразил я.
— Kтo — человек? Колчин? Ты иль я? Мы — зеки! А зек — говно. Грязь. Никто. Размажут тебя или меня севодня по стенке — никто завтра не вспомнит.
— Не могу с этим я согласиться, дядя Паша. Мы хоть и зеки, но всё же люди. А у каждого человека есть своё имя. Одно. От рождения. И ещё: не все люди — грязь и ничто. Маслов, что, разве — никто?
— Жареный петух тебя в жопу не клевал, вот что, Юра. Зелёный ты ещё, как с огорода огурец. Книжек начитался. Фуфловых. Жизь тебя мордой по раялю протащит — другую песенку запоёшь, — обиделся дядя Паша.
Некоторое время мы шли молча. Вдруг санитар предложил:
— Давай это дело перекурим — всех жмуриков не перетаскаешь.
Закурили. Дядя Паша присел на корточки по зековской привычке, я курил стоя.
— Смешно, — неожиданно заговорил дядя Паша, — помер он вольным человеком. Вчера его срок кончился. Родные уже прибегали на вахту, спрашивали об ём: когда выскочит? Выскочил… Жена и сын взрослый у его. Приехали откуда-то. Встречать. А он дубаря дал. Каши объелся. Из пшенички. А она заразная была. Отравленная.
— Зачем же ты деду Киле лапшу на уши вешал: кислоту выпил, ведро крови вытекло? Стыдно старому человеку голову морочить. Да и зачем?
— Да так, — откровенно заявил дядя Паша. — Для потехи.
— Нашёл над чем потешаться…
— Не всё ль равно, от чего дубарнул кто-то. Это Борису Лексеичу завсегда надо знать точно. Потому как он их потрошит с Толиком Стропилой. А того, живодёра, хлебом не корми… А у самого из жопы полгроба торчит. Об Колчине я так трёкнул, для хохмы. Эдак-то интересней, чем от какой-то там микробы хвост отбросить.
Что ему было возразить? Странный он человек, как-то не так всё понимает — с вывихом. И ещё я подумал: вот так возникают и распространяются лагерные параши. А я много раз задумывался, откуда берутся разные, порой нелепые слухи?
— Борис Алексеевич, — упрямо я доказывал своё, — назвал болезнь Колчина «идиосинкразией», я сам слышал. У Александра Зиновьевича спросил: что это такое? Он пояснил: крапивница. Колчин, ты же знаешь, бесконвойником был, бочки на объекте охранял по ночам. Днём отлучился в поле, где хлеб скошенный, но неубранный остался с прошлого года. Нашелушил зерна котелок, сварил и съел весь. С голодухи-то. А зерно оказалось каким-то грибком заражено. Вроде как плесенью. У него и начались галлюцинации. Видел, как он руками что-то в воздухе ловил? Александр Зиновьевич хихикал: темнит! А он не темнил. Доказательство тому: умер.
— Зиновьич — коновал, ни хрена в человеческих болезнях не секёт, — отозвался зло дядя Паша, почему-то ненавидевший юркого и словно бы скользкого фельдшера.
— Маслов, как увидел Колчина, — продолжал я желая выговориться, — сразу меня послал к капитанше. За пенициллином. Я её на полпути нагнал. С надзирателями. Они её до вахты провожали.
— Чтобы не снасильничали, — подхватил дядя Паша. — На воле на её и кобель ногу не поднимет, а наш брат на любую чувырлу полезет, лишь бы…
— Я ей и говорю, — перебил я дядю Пашу, — так и так, гражданин начальник, доктор Маслов просил миллион единиц пенициллина — больной умирает. А она скорчила обезьянью рожу и говорит: «Надо было раньше, а сейчас у меня рабочее время кончилось». И не пожелала возвращаться. Ох и вскипел Борис Алексеевич! Даже матерился. Таким гневным я его не видывал.
— Сука, пиздорванка, — дядя Паша аж сплюнул. — Всем, сучка, свою вонючую дыру подставляет, любому кобелю. В своём кабинете харится [231] Харить — совершать половое сношение (феня).
стоймя у её есть время, а больному лекарство дать — нету…
Всем в лагере была известна интимная связь начальника МСЧ с красавцем-блатарём Гришей Кудрей. О её развратности ходили легенды среди зеков. Правда, верить им было бы слишком легкомысленно. Похоже, все подробности любовных приключений капитанши были плодом бахвальства Гриши и извращённости блатных.
— Как ты думаешь, дядь Паш, отдадут Колчина родным или в общую яму сбросят?
— Да хуй их знает. На лапу начальству кинут — могут отдать. А могут с биркой на ноге в общак спровадить. Что им зек? Тьфу!
Мы вернулись в больничный барак. Дядя Паша загремел бачками, чисто вымытыми и надраенными песком, а я отнёс носилки на своё место — они могли понадобиться в любую минуту.
Читать дальше