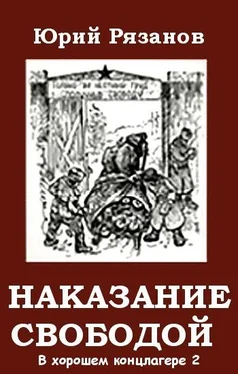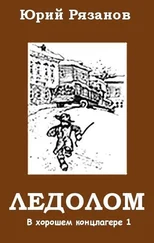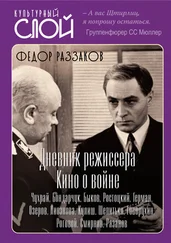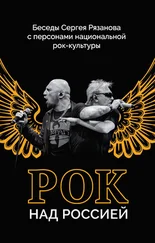— Дверь-то притвори, сынок, а то они не любят тепла, пухнут от ево. И — запах…
Я закрыл дверь. Дед Кила, кряхтя, рассупонился и принялся прилаживать бандаж с лямками и ремнями.
— На операцию почему не согласился, Акимыч? — поинтересовался дядя Паша. — Борис Лексеич тебя капитально отремонтировал бы. Чего отказываешься? Бегал бы, как лошак.
— А, ни к чему мне уже. Помирать пора. Перед Господом скоро предстану. Зачем понапрасну живую плоть резать? Не об чём разговор, милые. Я вам лучше чайку заварю. Свеженького. Вы уж извините меня: оно бы хорошо индейского, да нету. Грузинский — не то. Скус не тот.
Дед Кила извлёк откуда-то из тайника початую пачку грузинского, отсыпал в дочерна закопчённый алюминиевый чайник, снял его с печки, поставил на стол и накрыл засаленной ватной душегрейкой-безрукавкой, которую смастерил из сактированной телогрейки. Чай пили из одной кружки — по кругу.
— Ты это здря, Акимыч, — продолжил разговор санитар. — Кто знает, когда кому помирать. Нонешний гость, Колчин (фамилия подлинная), он и не зек уже, а рядом, в одной яме с этим фашистом из Поволжья Гаммерштадтом будет лежать. В обнимку, можно сказать, обнявшись, как родные братья. Во какая хуета-суета, Акимыч.
— Ты здеся не погань язык-от, Паша, — строго, но без гнева произнёс дед Кила. — Они всё слышут.
Кто — они, я не понял: то ли гости, то ли ангелы с Богом вкупе.
— А им-то чо? Их хоть в жопу еби — им всё едино — изрёк дядя Паша. — На что жмурик годится? В яму! Чтобы не смердил.
— Дак и на вечное упокоение надо-ть его проводить достойно. По-человечески. Пожалеть его, отдавшего душу. Ить смерть великая тайна есть. Никто из людей не знаит, что нас посля смерти ждёт. Только один Бог о том ведает. А кто мёртвых не уважит, тому и от живых уважения не будет. И на том свете.
— Всё это хуета-суета, Акимыч. А сало-масло — это да! А все гости твои — тухлое мясо.
Мне подумалось, что дядя Паша зло поддразнивает старика. Пытается его завести.
— Да рази можно эдак-то о них? — пожурил дед Кила. — Э, милый ты человек. Ежели при жизни людей не очень-то уважал, дак хоть опосля упокоения уважь. Нешто они за всю свою жизь уважения не заслужили? Чай и они не одно зло творили и добрые дела делали. А мы забываем об этом. О душах их. Да и ты о душе своей бессмертной помни. О Боге…
— Ты, Акимыч, пуще Бога опера бойся. Донюхается он до твоих агитаций божественных и пропустит по пятьдесят восьмой, пункт десять. [227] Несколько десятилетий спустя, в 1980 году, меня под тем же предлогом (обвинили в «распространении религиозных знаний» и «за антисоветскую деятельность») уволили из Свердловского областного краеведческого музея, хотя никаких религиозных знаний я не распространял, а организовал выставку под названием «Искусство графического оформления древнерусской книги». В роли наёмного палача выступил философ, преподаватель атеизма в УрГУ А. М. Мырсин. Даже в 1980-е кое у кого чесались руки снова загнать меня в концлагерь.
И схлопочешь довесок лагерный — червонец. Как пить дать.
— Типун тебе на язык. От кого ж ему прознать? О Боге я с хорошими людями беседую. Ты — не продашь. Этот паренёк — тожа.
— И всё ж не разевай рот широко, Акимыч. В лагере в одном конце пёрнешь, а в другом — слыхать. Да и во всем эсэсэр так заведено. Так что учти. А мы — поканали. Засиделись. Бывай здоров. И здря ты не хочешь килу вырезать. Зараз легче бы стало. Борис Лексеич тебе полпуда кишков укоротил бы. По блату. Дак не захотел. Ну покеда. Не кашляй. На пищеблок надо собираться. Спасибо за чаёк-то.
— С Богом, дорогой мой. А ты — верующий, милай мой?
— Нет, — честно признался я. — Но крещёный.
— Уверуешь ишшо, уверуешь. Какие твои годы, паренёк. Без веры человеку жить нельзя. Так уж нас Бог устроил. Приходите до меня, не забывайте.
— Опер давно к Киле принюхивается, — сообщил мне санитар, когда мы вышли из хитрого домика. — Намотает старому хрычу соплю антисоветскую. За Бога. Потому не хочет грыжу вырезать. Верняк. Чтобы потом на общие работы не выпнули. С тёплого-то местечка.
— А он не «фашист»? — поинтересовался я. — Не за чтение Библии заарканили? Как Золотухина…
— Не, — разговорился дядя Паша, шагая рядом налегке (носилки тащил я). — За што ему поддали — обхохочешься. Работал он на осеменительном пункте. Где-то под Тамбовом, что ли. Искусственное оплодотворение скотов, слышал?
— Не слыхивал.
— Доят быка, а опосля малофейку [228] Малофья (молофья) — сперма (просторечье).
заправляют коровам. Шприцом. Чистушки неужто не слышал про это? Дак Акимыч этим заправщиком себе на черняшку зарабатывал. И про Бога трёкал встречным и поперечным. На его и стукнули в энкэвэдэ. Не знаю, почему не посадили его по политической статье, допросили и отпустили. А посля, видать, спохватились. А «дело-то» — уже закрыто. Тада они через милицию, внаглую, состряпали ему другое «дело». Будто украл бутылку малофьи. Смех один. На хрен она ему сдалась, та малофья? Старуху свою, што ли, заправлять? Судья, сука, по натыриванию энкэвэдэшников проштамповал ему семь лет. Чтобы про Бога не трепал, где непопадя, не агитировал. А в посёлке после его посадки лекцию верующим менты прочитали, учёные. Блачнули Акимыча: дескать, у самого не маячит, дак на бычью малофью позарился. А ещё верующий, дескать, про Бога мозги другим пудрил — агитировал. Умеют, гады, человека с ног до головы оплевать. Спецы! А килу он уже здесь заработал — поднял чегой-то чижолое, шизик ненормальный. Кишки-то у ево все и провалились в муди. Смеётся, говорит: у меня пища вся меж ног варится, ниже хуя.
Читать дальше