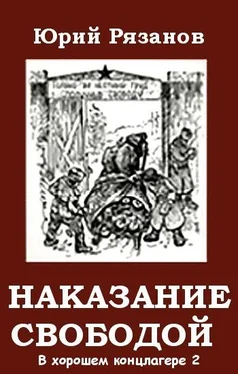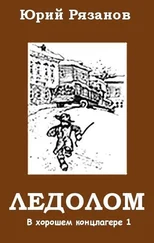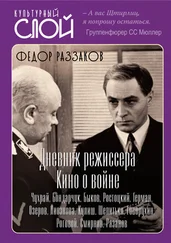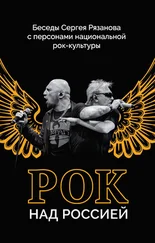Душегубы наконец-то разбрелись по углам. Аркашка, сидя на своей бригадирской перине, напряжённо вытянул шею, смотрит в ту сторону, где только что закончилась кровавая расправа. Ему, наверное, видно тело Феди Парикмахера.
Меня тоже тянет туда. Взглянуть. Хотя — на что смотреть? Труп есть труп. Мало ли я видел их за минувшие годы…
Стараясь сдерживать свои движения, забираюсь на колеблющийся дощатый щит, укрываюсь, натянув колючее одеяло. Укутываюсь с головой. Дрожь не унимается. Меня трясет, как в сорокоградусной лихорадке. Хочу уверить себя, что озяб, поэтому. Стыжусь даже себе признаться, что истинная причина — иная. Такое со мной и раньше случалось — трясло с перепугу. Или отчего-то зловеще грядущего.
Ещё одна напасть: мне мнится, что они со всех сторон приближаются к вагонке, на которой я укрылся. Вот-вот сорвут одеяло. И те же скобы-пики, что недавно с хрустом протыкали Федю Парикмахера, с дикой болью и хрустом — я его слышу — вгрызутся в моё тело. Никакие самоуговоры не помогают. От тяжкой, до боли во всем теле, усталости стучит кровь в висках. Но сон испарился. Его и близко не чувствуется. Душно. Да и что я, как страус? Откидываю край одеяла. Какие-то люди копошатся поблизости. Кто-то скатывает рулоном ватный тюфяк с подушками-думочками. Из перьев. Другой стоит рядом. Ждёт, когда освободится место. Первый взваливает на загорбок узел и топает в правую секцию. Это — «шестёрка», из четвёртой бригады. А за ним следует сам блатной, его господин, владелец барской постели, — Паня Пан. Ему не положено — по «закону» — делать то, что может быть определено как работа. Иные блатные даже сапоги на себя не натягивают — эту «почётную» обязанность исполняют «шестёрки». Добровольные холуи или проигравшие себя в рабство на определённый срок. Есть блатяги, которые за всю свою жизнь ничего, кроме карт, ложки да чужих кошельков, в руки не брали, а занимались лишь воровством да блудом. За то, что урка в «законе» лопату в землю вдавит — не землю ковырнёт, а лишь за черен ухватится — уже только за это его могут лишить воровского звания. И он потеряет все блатные привилегии. А то и саму жизнь, вещь в тюрьме самую малоценную. Если это не жизнь цветного или даже полуцветного. Цветными здесь именуют блатных же. И карты козырные.
Блатные из нашего угла бегут, как крысы с тонущего корабля. Подальше от места преступления. Освободившиеся койки занимают — по приказу блатных — работяги и шушера из других бригад. Шакал Рудик уже приоделся в приличное казённое шмотье — как же, заслужил! Он воспитывает «сухаря», согласившегося занять чужое место.
— Гляди, мужицкая твоя харя, только расколись! Мусорам будешь кричать: дохну на этом топчане со дня рождения. Понял ты? Паскуда! И: ничего не видал, понял ты? Смотри у меня, фраерюга.
Организатор! Массовик-затейник! От возмездия хотят уйти, гады! Мне, наверное, от Дураськи не сдобровать. Теперь у него в руках власть — от имени блатных. И, следовательно, от рабочего класса. Что захочет, то и сотворит. И никакой на него управы не сыщешь. Всё в их руках.
Ещё какие-то фигуры снуют неподалёку, трясут спящих или притворяющихся, о чём-то спрашивают. Богдан Крячко спросонья залупился, не разобрав, в чём дело. И получил в морду. Успокоился — сразу заподдакивал.
Подходят всё ближе и ближе… Сердце моё, словно кулаком стучит по грудине.
Шакал Рудик возник на том же месте, что и позавчера ночью, когда пытался «помыть» меня. Сейчас в глазах его торжествует ехидство. Он упивается своей властью, безнаказанностью.
— Што видал, падло?
Я молчу.
— Смотри, порчак! Ежли вякнешь… Ты у нас давно на кукане. Мы всё об тебе знаем, мутило… Домутишь!!!
И он, пригрозив мне вытянутым указательным пальцем, принялся трясти нижнего соседа, белоруса Ивана Ивановича.
— Ты, чёрт безрогий…
Тот — ни гу-гу. Рудик тряхнул работягу за плечо, саданул кулаком в бок. Иван лишь ойкнул, разлепил веки, секунду бессмысленно таращился, снова захлопнул их и захрапел.
— Скотина безрогая. Фраерюга подлый. Мужик, — пробубнил свежеиспечённый приблатнённый и взялся будить следующего.
«Пронесло»! — с облегчением подумал я. Страхуются, душегубы. Следы заметают мокрыми хвостами. Чего угодно от них можно ожидать. Из-за боязни разоблачения могут и на новое убийство пойти — терять им нечего… Ну и усердствует Дурасик! Чтобы примазаться к власть имущим. Испокон веков не начальник правит в тюрьме и лагере, а профессиональный преступник с прихлебателями да палачами. И нам, мужикам, приходится терпеть не только начальством установленный каторжный режим, но и иго блатных, подчиняться их насилию. Отдавать последнее, кровное. Но почему? Ведь нас во сто раз больше, и мы сильнее их. Мы — разъединены. А они сплочены, жестоки, безжалостны, не знают, что такое стыд, совесть, доброта, правда. И кое-кто из работяг поддерживает ворьё, поддавшись на мульку, [201] Мулька — обман (воровская феня).
что-де любой урка душу отдаст, чтобы простому мужику без забот и обид жилось в неволе. Подачки кое-кому из работяг, умение разобщить нас, запугать, подчинить, наказать, чтобы все видели и знали, что ждёт за любую попытку неповиновения, — всё это позволяет властвовать в местах заключения профессиональным преступникам — блатным и разным другим группировкам, например сукам, беспределу…
Читать дальше