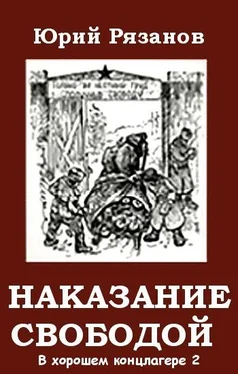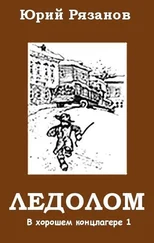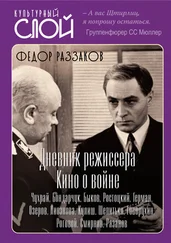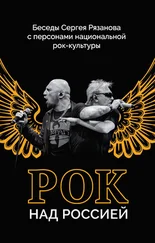— Аркаша, я к тебе с просьбой…
— Давай короче.
— Возьмём Балерину в бригаду? Он будет хорошо работать. Ручаюсь. Я бы его в напарники взял.
Предложение выглядело настолько дико, что всегда находчивый бригадир словно воды в рот набрал.
— Да ты что, Рязанов, очумел? У меня бригада — не дом терпимости.
— Ты же знаешь, Аркаш, что он не по своей воле. И не для удовольствия, как Толик Педагог. Его силком…
Тут вмешался Иван Васильевич:
— Втюрился Юра в Балерину.
— Дурак! — резко сказал я и ничуть не пожалел о вырвавшемся слове.
— Ша, Василич, — остановил помощника и бугор.
— Жалко, пропадает человек, — сказал я.
— Всех не пережалеешь, — отнекнулся Аркаша.
— Я не обо всех прошу — об одном-единственном. Одному-то — в наших возможностях помочь. Спасать надо человека. Пока не поздно.
— Человек? — заносчиво подхватил культорг. — Использованный гондон.
— Замолкни, — гневно произнёс Аркашка. И мне:
— Человек-то он — человек… Понимаю. Да бригада его не примет. Иди, Рязанов, отдыхай. Завтра потолкуем.
— Человек! — бурчал мне в спину культорг. — Таких человеков топить надо, как паршивых котят. В параше. Чтобы заразы не было от них.
Ненавистник! Ему-то что до Генки? Лишь бы затоптать. А вдруг бугор согласится? Большинством голосов бригада решит? Ведь я с ним буду работать в своём забое. Первое время пусть хоть под юрцами [194] Юрцы — расстояние от нар до пола. Под юрцами — под нарами (тюремно-лагерная феня).
спит. Всё же не у параши. А после — рядом со мной место свободное. На него никто не хочет ложиться — примета плохая. Будто покойник по ночам щекотать будет. Ерунда все эти приметы. Главное — Генка постоянно на глазах будет у бригады. И печники-мерзавцы [195] Печник — активный педераст (тюремно-лагерная феня).
не посмеют принуждать его. А если кто и понагличает, не только я — бригада отпор даст, заступится. Бригада — великая сила, когда все за одного и каждый за всех. И я поверил в такое чудо. И хотел пойти и объявить Генке о результатах переговоров с бригадиром, порадовать, но сдержался. Да и ничего пока не решено толком. Едва ли бригада поддержит меня. Вернее всего — засмеют. А может, удастся доказать — не все же они звери.
«И всё равно, — подумал я, — Аркашка — мужик справедливый. И доброта в нём есть. Настоящая. И такого человека засадили в тюрягу! А может, за это и наказали, что не гад?» Отбывал Тетерин по семьдесят четвёртой, за хулиганство. Молва такая: побил при свидетелях какого-то большого начальника — за подлость. Вот Аркашку и запечатали в конверт — и в почтовый ящик номер… [196] Все концлагеря обозначаются номерами «почтовых ящиков».
Он и тут стал права качать у лагерного начальства. И за дерзость в штрафняк загремел. На бессрочно, говорят. Так, наверное, со штрафняка и освободится. Последний год дотягивает, последние месяцы. С зачётами раньше выскочит. А мне двенадцать с лишним — календарных. Да больше года зачётов наскреб. Но всё равно ещё очень длинная лямка. А у Генки — всего два с половиной месяца! Одной ногой уже на воле. Ну что всем нам стоит человеку малость помочь. Самую малость!
Большинство работяг уже спит — умаялись за день в карьере до полного изнеможения. Я тоже еле ноги передвигаю. Меня прямо-таки тянет вниз свинцовая ноша собственного тела. Я её едва превозмогаю. Осталось лишь влезть на своё место и устроиться на ночь, скрутив медную проволоку.
Нестерпимо ныла левая ступня, покалеченная тюремными надзирателями в Челябинске. Эта боль становится хронической. От усиленной работы.
Я уже ухватился за стойку и занёс пудовую ногу, чтобы поставить на колбышку-приступку, как в углу, где картёжничали блатные, возник какой-то гвалт и раздался вопль:
— Бра-а-тцы! За што-о-о?
Я машинально взглянул в ту сторону, откуда послышался истошный крик, и остолбенел. Меня словно парализовало. В проходе между двумя вагонками, всё ещё спиной ко мне, но уже стоял Федя Парикмахер. А его со всех сторон и в спину протыкали пиками несколько нападавших. Действовали они умело, дружно. В быстро наступившей вокруг тишине слышался жуткий хруст, словно бабка Герасимовна шинковала на общей кухне капусту. Эта фантастически-кошмарная сцена длилась несколько секунд. Мне же показалось, что прошёл чуть не час, пока рухнул на бетонный пол поднявший руку над годовой в тщетной попытке защититься Федя Парикмахер.
Меня пронзило это убийство.
Теперь я увидел того, кто последним ударом поверг Федю, — лицом ко мне секунду, не более, стоял Адик Чёрный. Его вытаращенные глаза взирали на упавшего почти с недоумением. Расстегнувшаяся косоворотка обнажила вытатуированный, известный каждому в СССР профиль с валиком чёрных усов и волевым подбородком.
Читать дальше