Матильда стояла неподвижно. Все хорошо. Она довольна. Она врастает в новое состояние. По праву наслаждается этой живой белизной. Пирует, ощущая внутреннее торжество, — угощается ею досыта.
И ее бы нисколько не смутило, если бы вдруг пришлось обернуться козой.
Но тут прямо на голову рухнула тишина. Какая-то жуткая тишина, неожиданная, почти ненормальная. Словно окрестности внезапно опустели. А на самом деле — это цикады разом умолкли.
И, должно быть, пережитое девочкой слияние неподвижности и тишины обострило ее восприятие, заставило почувствовать на себе чей-то взгляд. Другой взгляд — не козий.
Где-то совсем близко от нее, очень-очень близко, находились два глаза. И эти два глаза в упор смотрели именно на нее. Эк уставились!
Решительно сегодня ей не удается остаться никем не замеченной. Как будто везде только ее и ждут. Хуже: как будто везде ее подстерегают. А вот эти вот глаза — невидимые, никому не принадлежащие глаза — просто обращают ее в камень.
Хотя вообще-то никакая это не новость: что она — первый раз в жизни испытывает такое ощущение? Так уже бывало: на нее смотрят, а она каменеет. Чаще всего это случалось, когда она просыпалась в спящем, погруженном в тишину доме, и глаза ночи пристально глядели на нее, и ей становилось холодно под этим взглядом.
Но сейчас все-таки было совсем другое. Под взглядом уставившейся на нее пары глаз Матильду не начало знобить, и ей не стало по-настоящему страшно. Да и ощущение было непохожее: за ней не столько наблюдали, сколько изучали ее — всю. Невидимые глаза перемещались по ней — от затылка со светлыми кудряшками к лодыжкам, от подколенки до ямочки на локте…
Ее словно бы обмеряли, ее оценивали, ее вычисляли. К ней подошли с циркулем, угольником, линейкой… С калькой, с копиркой, с миллиметровкой…
Матильда, которая решила, подобно Бабулиному жениху Феликсу, стать художником, отлично знала тысячу и один способ изучать модель, прежде чем приступаешь к наброску (Феликс, кстати, и научил ее этим умным словам), но тут было еще одно: ее не просто рассматривали и оценивали, ее пожирали глазами, попросту ели взглядом — от макушки до пяток.
Ей тут же пришла в голову мысль, что это волк. Наверное, от соседства с козами, с родственницами, с сестрами, а может быть, потому, что хоть эти глаза и оставались невидимыми, они как-то странно светились, да-да, так странно светилась эта пара глаз, которая пробовала ее, лакомилась ею по кусочкам, но почему-то было совершенно не больно — ни затылку, ни лодыжке, ни коленке, ни локтю…
Хм, если это волк, который решил попросту есть ее глазами, но не собирается делать ей больно, проливать ее кровь, — такой волк пусть лучше выйдет из леса!
— Эй! Ты кто? Звать-то тебя как?
Ага, значит, у волка есть голос. Певучий такой голос.
Матильда обернулась к волку — повернулась на голос.
Взобравшийся на сиденье старого трактора парнишка, кажется, постарше ее самой, с шапкой встрепанных темных волос, одетый в тельняшку, которая ему велика, и потому из-под нее высовывались только две ноги цвета то ли грязной медной монетки, то ли коврижки, расхохотался, как сумасшедший.
— Что — испугалась? Так как же звать-то тебя?
Она оторопело, но зачарованно смотрела на рот, который умел ТАК смеяться.
Нет, это были не волчьи зубы, пусть даже они и острые, это не были и зубы волчонка, потому что прямо спереди, сверху, где виднее всего, одного зуба не хватало.
Матильде это показалось невероятным, просто потрясающим: чтобы вот так, во весь рот, смеялся мальчишка, у которого недоставало зуба! Прямо спереди! Она отлично помнила, как прятала за ладонью или платком рот, когда у нее выпадали зубы, считая, что нельзя смеяться, потому что стыдно быть такой беззубой, пусть даже все и говорят, что это мышка уносит выпавший и спрятанный на ночь под подушку зуб, этот позорный кусочек белой кости, обменивая его на денежку или что-нибудь сладкое (ей-то ни разу не удалось убедиться, правда ли это, ни разу не удалось застукать мышку). Она помнила, как не хотела и не разрешала себе есть, особенно — тартинки и бутерброды, потому что с десен будто кожу содрали и было ужасно больно. В общем, куча была всяких запретов, вызванных этой странностью в поведении природы, которая, впрочем, почему-то сильно радовала ее родителей.
А вот здесь — над этим ртом, бесстыдно показывавшим всему миру дырку между зубами, которая должна была показаться кошмарной, чудовищной, но которая зияла — как сияла, — здесь, повыше, сияли еще и два глаза, теперь очень даже хорошо видных, два ярких, два оливково-зеленых глаза на фоне загорелой кожи. Глаза Певчего Волка.
Читать дальше
![Ноэль Шатле Дама в синем. Бабушка-маков цвет. Девочка и подсолнухи [Авторский сборник] обложка книги](/books/181574/noel-shatle-dama-v-sinem-babushka-cover.webp)
![Аркадий Васильев - Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет [Авторский сборник]](/books/25082/arkadij-vasilev-ponedelnik-thumb.webp)
![Эдуард Овечкин - Акулы из стали. Последний поход [Авторский сборник]](/books/27091/eduard-ovechkin-akuly-iz-stali-poslednij-pohod-av-thumb.webp)
![Ольга Ларионова - Формула контакта [авторский сборник, 1991]](/books/34363/olga-larionova-formula-kontakta-avtorskij-sborni-thumb.webp)
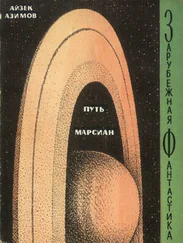




![Елена Булганова - Девочка, которая спит. Девочка, которая ждет. Девочка, которая любит [сборник litres]](/books/436759/elena-bulganova-devochka-kotoraya-spit-devochka-ko-thumb.webp)

