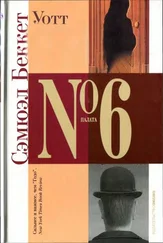Когда погружалось в пустоту его тело, он чувствовал, что оживает разумом, обретавшим свободу двигаться среди своих сокровищ. У тела — своя опора, у разума — свои сокровища.
Имелось три зоны: свет, полумрак, тьма, — каждая со своими особенностями.
К первой принадлежали формы, имеющие параллели, сверкающая диаграмма собачьей жизни, наличные элементы физического опыта, которыми можно было воспользоваться для новых комбинаций. Здесь удовольствие заключалось в обратном действии, удовольствие от обращения физического опыта в свою противоположность. Здесь толчок, который получал физический Мерфи, давал Мерфи из сферы разума. Толчок был тот же самый, но скорректированный в отношении направления. Здесь можно было распоряжаться свечными торговцами, подвергнув их медленному выдиранию волос, распоряжаться мисс Кэрридж — которую бы изнасиловал Тиклпенни, и так далее. Здесь полное физическое фиаско обращалось в вопиющий успех.
Ко второй принадлежали формы, не имеющие параллелей. Здесь удовольствие заключалось в созерцании. Эта система не имела другого модуса, в котором распадалась бы связь времен и следственно, не нуждалась в ее восстановлении в имеющемся. Здесь размещалось блаженство Белаквы и прочие, почти столь же четко означенные.
В обеих этих зонах своего личного мира Мерфи чувствовал себя независимым и свободным, в одной — вознаграждать себя, в другой — переходить по желанию от одного ни с чем не сравнимого блаженства к другому. Никаких встречных противоборствующих действий не наблюдалось.
В третьей, темной, происходило непрерывное изменение форм, постоянное слияние и распад форм. Свет заключал в себе податливые элементы нового множества, мир тела, разбитый вдребезги, как игрушка; полумрак — состояние покоя. Но тьма не содержала ни элементов, ни состояний, ничего, кроме форм, образующихся и распадающихся на части, составлявшие новые образования, без любви и ненависти или любого другого доступного пониманию принципа изменения. Здесь он не был свободен, а был лишь пылинкой во тьме абсолютной свободы. Он не двигался, он был точкой в бесконечном, ничем не обусловленном зарождении и истечении линии.
Матрица иррациональных уравнений.
Приятно было столкнуть одновременно множество Тиклпенни со множеством мисс Кэрридж в омерзительном любовном акте. Приятно лежать, предаваясь мечтам, в долгом ящике безвременья рядом с Белаквой и наблюдать, как, кривясь, занимается рассвет. Но насколько приятнее было ощущать себя снарядом, выпущенным ниоткуда и ни на что не нацеленным, захваченным сумятицей не-ньютоновского движения. Настолько приятно, что приятно — не то слово.
Таким образом, поскольку его тело делало его все более и более свободным в его разуме, он стал все меньше и меньше времени проводить при свете, плевать ему было на то, что там занимается в этом мире; и меньше — в полумраке, где выбор блаженства предполагал элемент усилия; и все больше — и больше — и больше — во тьме, в состоянии безволия, пылинки в ее абсолютной свободе.
Теперь, когда выполнен этот тяжкий долг, никаких сводок в дальнейшем представляться не будет.
Победа Селии над Мерфи, последовавшая за ее признанием деду, была одержана в середине сентября, в четверг, 12-го числа, если быть педантически точным, в самый канун осеннего поста, когда Солнце все еще находилось в созвездии Девы. Уайли спас Нири, утешил и наставил его неделю спустя, когда Солнце со вздохом облегчения переместилось в созвездие Весов. Встреча Мерфи и Тиклпенни, развязавшая столько узлов, произошла в пятницу, 11 октября (хотя Мерфи об этом не знал), когда снова было полнолуние, но Луна находилась не столь близко к Земле, как во время последнего противостояния.
Давайте теперь отведем Время, этого старого греховодника, хоть и облысевшего на затылке, взяв его за те жалкие, редкие и короткие волосенки, что у него остались, назад, на 7 октября, понедельник, первый день его возвращения к обворожительной мисс Гринвич.
Добропорядочные люди укладывались спать.
Мистер Уиллоуби Келли лежал, откинувшись на подушки. Алое полотнище воздушного змея было потрепано и выгорело от времени. Он чинил его с помощью иголки с ниткой, больше он ничего сделать не мог, теперь большой алый шестиугольник лежал на подоконнике, снятый со своего деревянного остова в форме звезды. Сам мистер Келли не выглядел и на день старше девяноста, потоки света от лампы, стоявшей рядом с постелью, падали на купола его лысого шишковатого черепа, рассекая тенями изрытое морщинами лицо. Ему было трудно думать, казалось, его тело раскинулось на огромное пространство, если бы он пристально не следил за ним, отдельные части тела разбрелись и заблудились бы, он чувствовал, что им не терпится двинуться в путь. Он был насторожен и возбужден, его настороженность была возбуждена, мысленно он бросался то к одной части своего тела, то к другой, пытаясь схватить. Ему было трудно думать, он был не в силах что-то прибавить к печальному каламбуру Celia, s’il у a, Celia, s’il у а [52] Селия, если она существует (фр.).
(так как он превосходно изъяснялся по-французски), без конца надсадно стучавшему у него в голове. Построение каламбура с ее именем чуточку утешало его, самую чуточку. Что такого он ей сделал, что она больше не навещает его? Теперь, сказал мистер Келли, у меня нет никого, даже Селии. Человеческое веко не слезонепробиваемо, драгоценная влага собралась в рытвинах между скулами и носом, никакого иного лакриматория не требовалось.
Читать дальше
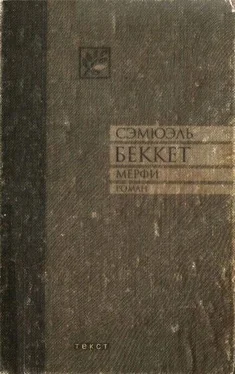

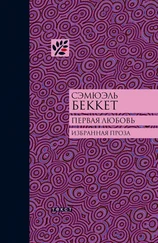

![Сэмюэль Беккет - Счастливые дни [другой перевод]](/books/98045/semyuel-bekket-schastlivye-dni-drugoj-perevod-thumb.webp)