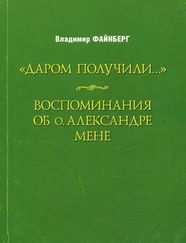Я удивился, спросил:
— Это что, наш родственник?
И ты ответил:
— В известном смысле. Родители очень любили его. Мама даже несколько раз видела. И я тоже люблю. И не только стихи. Вся его жизнь — поэма.
— Из‑за чего он кончил самоубийством? — спросил
я.
И ты ответил; я этого никогда не забуду — того, что ты сказал:
— Маяковский привил себе социализм. Как прививает себе учёный — микробиолог новую вакцину против болезни. Старый мир был болен. Казалось, изобретено новое лекарство для счастья человечества. Это был великий эксперимент.
— Тогда зачем он выстрелил в себя?
— А ты хотел, чтоб его расстреляли в тридцать седьмом?
В тот вечер я понял, почему ты раньше уходил от моих вопросов, изо всех сил скрывая своё отношение к тому, что делалось вокруг, не стал диссидентом, как Игорь и Тоня! Потому что тебе больно то, о чём открыто орут сейчас, во время перестройки, все газеты, журналы, телевизор. У тебя у самого эта прививка!
Конечно, интересно все‑таки прочесть твой роман. Узнать, к чему ты пришёл. А ты ухитрился раздать по редакциям все экземпляры. Даже если его напечатают, меня уже здесь не будет.
Снова надо ждать. Теперь уже разрешения ОВИРа. Не может быть, чтоб меня не выпустили. Один мой друг, о котором ты ещё узнаешь, сказал: «Ты им даром не нужен».
Все‑таки обидно слышать такие слова. Что ты даром не нужен своей стране. Хотя я всегда это чувствовал. Не нужен матери. Не нужен школе. Медучилищу. Да и везде, где работал за последние полтора года, тоже был не очень‑то нужен.
Помнишь, как после звонка из милиции я стал ходить в вечернюю школу рабочей молодёжи, устроился дежурить лифтёром в доме у метро «Сокол»? За семьдесят рублей.
Я это сделал только для тебя. Чтоб тебе было спокойней.
Однажды ты себя плохо почувствовал. Попросил бросить в почтовый ящик письмо Артуру Крамеру, который был тогда в командировке. На улице я не удержался и распечатал. Вот оно, это письмо. Так и не послал, потому что конверт был уже разорван. Вклеиваю.
«Дорогой Артур!
Как договорились, посылаю контрольное письмо. Вчера с семи утра по московскому, или же с десяти по душанбинскому, видел в закрытых глазах тебя, садящегося в газик. Вы ехали в горы. Водитель говорил о какой‑то проблеме в Институте ботаники; что‑то связанное со склокой.
Несмотря на жару, он был в пиджаке и галстуке.
В твоём сознании все это время находился М. С. Горбачев. Ты думал о том, что ему сейчас труднее, чем всем. Потом думал о составе Политбюро. О том, что нам запрещено вмешиваться в мышление других людей.
Ярко видел, как вы проехали мимо тенистых деревьев, под которыми сидели на корточках с пиалами в руках старики в полосатых халатах.
Дальше опыт пришлось прекратить — в комнату вошёл сын. Сильно заболела голова.
На днях, пользуясь твоим методом, выгнал камень, застрявший на выходе из почки в мочеточник, у одного режиссёра. Сам удивился. Для проверки послал его на рентген. Камня нет.
С сыном все по–прежнему. Трагедия, нет у него никаких идеалов, не получается помочь ему ни в чём. Я — типичный сапожник без сапог.
До встречи».
Ну и письмецо! Вот ты жалуешься, что нет у меня никаких идеалов. Над теми идеалами, что нам внушали на комсомольских собраниях, сейчас открыто по телевизору смеются.
Откуда им взяться? Этим идеалам.
Не волнуйся. Есть у меня идеалы. Есть!
Сколько у тебя знаменитых знакомых, даже кинорежиссёры, столько людей вылечил и не мог, не захотел попросить их устроить меня на интересную работу. И чтоб деньги хорошие платили.
Пришлось мне через два дня на третий сутками сидеть в подъезде, в конуре у лифта, со своими учебниками и тетрадями, заниматься ради этого проклятого аттестата.
Лампочка тусклая, жильцы грохочут дверью лифта, постоянно выглядывай — свои или чужие входят в дом. Может, для пенсионеров и занятие, а для меня — тоска смертная. Считал часы, когда можно будет уйти домой. Единственное утешение — приёмничек. Слушал днём передачи про перестройку и гласность. Вечером — западные станции. Их уже перестали глушить.
Ночь. Все спят. А я ловлю кайф. Слушаю песни Вилли Токарева. Или Высоцкого. «Идёт охота на волков, идёт охота…» Моя самая любимая песня. Слушал и рок–музыку. До сих пор не могу понять, нравится она мне или не нравится.
Это ты виноват со своими Бахами и Чайковскими. Никогда не забуду эти вечера, когда ты ставил пластинки на свой дохлый проигрыватель «Молодёжный», звал в свою комнату: «Послушай то, послушай это…» Воспитывал, так сказать, мой музыкальный вкус.
Читать дальше