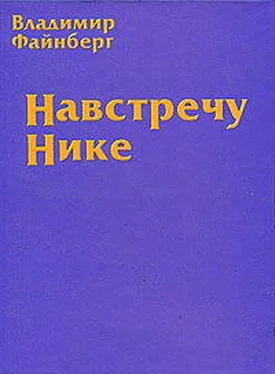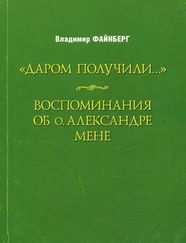Щегол спрыгнул с жёрдочки на порожек клетки, некоторое время о чём–то подумал, затем перелетел на ближайшую ветку тополя. В лучах весеннего солнышка почистил пёрышки, щебетнул, взлетел повыше.
Оглушительное, нарастающее чириканье раздалось в округе. Со всего двора, со всех деревьев стремглав слетались к нашему тополю стайки невесть откуда взявшихся воробьёв. Казалось, их не меньше сотни.
Наш бедный щегол вместо того чтобы, спасаясь, влететь обратно к нам в открытое окно, шмыгнул на другое дерево, потом на крышу дровяного сарая, откуда и упал, насмерть заклёванный за то, что дерзнул вторгнуться на чужую территорию, нарушить границу.
— Чужаков не любят, – сказала твоя бабушка Белла, захлопывая окно. В глазах её стояли слёзы.
Она дала нам картонную коробочку, мы с отцом вышли и похоронили у сарая то, что осталось от нашего щегла.
Очень скоро, кажется, в то же лето, я вспомнил эту мамину фразу.
В те времена ещё бродили по московским дворам то деревенские бабы–молочницы, продающие из бидонов молоко от своих подмосковных буренок, то страшноватые цыгане с облезлым медведем на цепи, который танцевал под бубен, то – никогда не забыть! – юные брат и сестра – акробаты. Для них из окон на разостланный платок особенно щедро летели гривенники, бумажные рубли и даже десятки с вложенными в них для тяжести конфетками.
Однажды во двор вошёл, уже не в первый раз, диковинный человек. Язык не поворачивается назвать его старьёвщиком, хоть он и взывал, медленно обходя двор: «Старьё берьём, покупаем–продаём!»
Во все глаза глядел я всё из того же окна. Это был худой человек в длинном до пят синем плотно запахнутом стёганом халате и толстой косой. Чёрной до синевы. За спиной и на груди он нёс по длинному мешку. Я уже знал, что в них находится: в том, что за спиной – всякая матерчатая рухлядь, тряпки, старые рубашки; передний же мешок был набит серебристыми мячиками на длинных резинках, деревянными свистульками. Если подуть, из них выдувался резиновый шарик и раздавался звук «Уди–уди!»; бумажные веера с нарисованными на них пагодами, дракончиками или неслыханной красоты цветами; карманные зеркальца и яркие, похожие на большие конфеты, хлопушки.
Как ни странно, все эти вещицы, столь заманчивые для ребятни нашего двора и даже для Гали и Нины, меня не так прельщали, как сам этот всегда улыбающийся узкоглазый человек, который вместе с мешками невидимо, но явственно даже для меня влачил груз одиночества. Его, как почему–то и всех китайцев в Москве называли Ходя.
Да, он был китаец. Самый настоящий. И–но–стра–нец, житель далёкой, загадочной страны – Китая.
Когда по радио, по папиному ламповому приёмнику пели песенку из кинофильма – «Любимый город в синей дымке тает…», мне слышалось: «в синий дым Китая»! Так я и напевал, когда меня никто не слышал.
Этот любимый мною Ходя менял свои замечательные игрушки на никому не нужные драные вещи. Куда он их потом сдавал, что с ними делал – не знаю. Знаю только, что старая папина гимнастёрка, почти новое вафельное полотенце и один протёртый шерстяной носок были утянуты мною из дома после того, как наш дворник дядя Федя, всегда подвыпивший, пытался метлою под зад изгнать китайца со двора, с чужой территории. Тогда–то я, наскоро нахватав все эти вещи, кинулся за Ходей на улицу – наш похожий на деревню Второй Лавровский переулок. Догнал, отдал, получил от китайца серебряный мячик с резинкой, хлопушку и веер. Долго смотрел ему вслед.
Смотрю до сих пор… И щегла вижу, помню, у него были выклеваны глаза.
…По тропинке под соснами с ручной тележкой, ведром и метлой передвигается мальчик, собирающий мусор, пустые пластиковые бутылки. Издали улыбается мне. Да это же родственник Махмуда, тот самый, что пёк на углях баранину там, вверху на перевале.
Почему–то чуть отлегает от сердца.
— Тебе видно, где мама?
— Там, – отвечаешь ты, указывая в сторону взбаламученных купальщиками прибрежных волн.
— Нет, ты показываешь на море вообще, а я хочу знать, где сейчас плавает мама Марина.
Ты с готовностью становишься ногами на стул, вытягиваешь шейку, добросовестно озираешь панораму пляжа и, наконец, радостно тычешь пальцем в сторону зачаленной яхты:
— Там! Около кораблика! Хочу к маме!
— Минуточку! Мы же с тобою сидим в баре, как большие. Мы ведь договорились, что дадим маме возможность поплавать одной, а потом она оденется, придёт к нам, и мы угостим её соком. И пиццей, если захочет.
Читать дальше