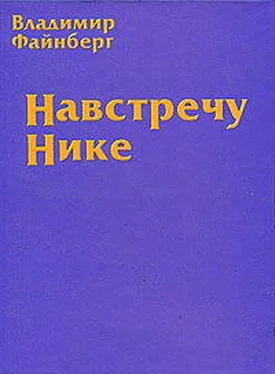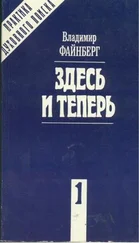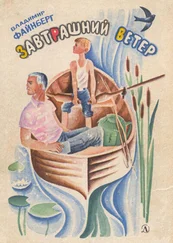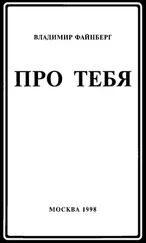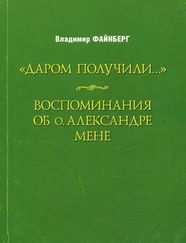Мы, горстка студентов, угнездились в огромном камине переполненного писателями так называемого Дубового зала, где теперь устроен ресторан.
Над столом президиума на крюке висел портрет Сталина. Во весь рост.
С. Трегуба прорабатывали, словно он – уголовный преступник. Все выступающие из кожи вон лезли, чтобы попасть в газетные отчёты, выслужиться.
Никакая это была не дискуссия, а публичная казнь.
Я понял, что мне показывают мир, куда я так стремился… Не то, что выступить, пребывать здесь, среди этой своры, показалось отвратительным. Я даже вышел из камина, намереваясь покинуть зал.
Но тут несчастному критику, как преступнику, дали последнее слово.
Он подошел к трибуне, попытался что–то сказать в свою защиту. Его пресек, поднявшись из–за стола президиума, секретарь Союза, лауреат множества премий – Константин Симонов, патетически указал на портрет Сталина: «И вы смеете оправдываться под портретом этого человека?!»
«Дискуссия» была закончена.
Потом я брёл домой, думая о том, что оказался трусом, что должен был выступить в защиту…
Несколькими годами позже я купил всё в том же букинистическом магазине близ «Националя» книгу другого критика – Виктора Шкловского, бывшего соратника Маяковского. Она так и называется «О Маяковском».
Книга до сих пор кажется мне необыкновенно интересной.
Прочитав её, я страстно захотел познакомиться с автором, если он ещё жив, прочесть ему свои стихи, пожать руку, которую пожимал Маяковский.
Я не знал, что ещё жива мама Маяковского, Александра Алексеевна, с которой я позже познакомился, смею сказать, подружился.
Шкловский оказался жив. Не помню, каким образом, я раздобыл номер его телефона. Набрался храбрости, позвонил. И получил приглашение явиться завтра же. К восьми утра!
Была зима. В сущности, ещё стояла морозная ночь, когда я поднимался по ступенькам лестницы одного из обшарпанных дореволюционных зданий в Обыденском переулке рядом с метро «Кропоткинская».
На звонок долго никто не открывал. Я позвонил снова. Наконец, в проёме распахнувшейся двери возник человек в кальсонах и нательной рубахе.
— Кто вы такой? – спросил он в недоумении.
Через несколько минут я сидел сбоку невиданного письменного стола с большим полукруглым вырезом. Внутри среди спящих на рукописях кошек восседал Шкловский, похожий на морского льва, с которым мне довелось бултыхаться в бассейне. За все утро Шкловский не только не дал возможности прочесть хоть одно стихотворение, слова не дал сказать. Казалось, он знает всё обо всём и обо всех. Так и сыпал цитатами, датами, совершенно неожиданными сведениями.
Это была птица, слышащая лишь саму себя.
Когда он узнал, что я знаком с поэтессой Верой Инбер – худенькой старушкой, безуспешно разводившей на своем дачном участке кактусы, я услышал жуткую фразу:
— Напрасно вы с ней якшаетесь. У неё руки по локоть в крови!
На прощанье Шкловский надписал принесённый мною экземпляр своей книги. Автограф был несколько загадочный: «Это книга о трезвых, как Ленин, Маяковский. Этого я не дописал…»
Книга до сих пор стоит в нашей домашней библиотеке. Можешь посмотреть.
С тех пор он дарил мне все свои новые книги. Дарил фотографии. Собственные. И жены – Серафимы Густавовны Суок. Посредством Шкловского я постепенно познакомился с другими знаменитыми сподвижниками Маяковского – поэтами Кирсановым и Асеевым. Это были талантливые люди, но они тоже слышали только себя, и уж совсем не знали страны, её боли… Да и не желали знать.
Между прочим, у Асеева служил домработницей кузнечиком засушившийся во времени поэт Кручёных, тот, что прославился до революции заумными стихами: «Дыр, бул, щур, убещур». Полубезумный, он при мне явился к своему хозяину в кабинет и, маршируя на месте, стал отчитываться:
— За квар–ти–ру за–пла–тил. Вот кви–тан–ция. Сдачу я возь–му се–бе! Сдал в хим–чист–ку пан–та–ло–ны и ку–пил кар–тош–ки вам, кило–грам–ма пол–то–ра. Де–нег я ист–ра–тил мно–го, не оста–лось ни–че–го!
Суетный всё это был народец, скажу я тебе, изуродованный эпохой всеобщей лжи и предательства.
Не без скандала окончил я Литературный институт, о чем тоже можно прочесть в «Здесь и теперь». Доброжелатель, руководитель поэтического семинара в решающую минуту предал меня, хотя наступила так называемая хрущевская «оттепель», вроде моя дипломная поэма о парне, погибшем в сталинских лагерях, теперь ничего страшного собой не представляла. Работая над поэмой, я думал о сгинувшем навсегда поэте–лейтенанте, помнишь? Заставили принести рукописный сборник стихов. Отобрали из него стихотворений двадцать. С опозданием, после остальных студентов, я, наконец, защитился.
Читать дальше