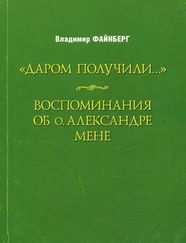Я покорно иду к дому, поднимаюсь в свою «келью».
Золотой день стоит в окне, как икона. Последний мой день во Франции. Что‑то толкает меня обернуться в сторону комнаты, подойти к чемодану, отстегнуть его тугие замки, достать самую большую из подаренных записных книжек. Подсаживаюсь с ней к секретеру, чтобы начать делать наброски к замыслу будущей книги.
Отбрасываю записную книжку. Подхожу к окну. За ним — торжество света, зелени — всего, что даровал Бог.
Господи, дай мне сил написать книгу во имя Твое! Написать о том, как пытаюсь приблизиться к Тебе. Если без Тебя, держащего миры, вдохнув, не выдохну, выдохнув не вдохну, как же без помощи Твоей напишу книгу? И как бы хотелось, чтоб те, кто будет читать её, смогли пережить вместе со мной всё, что происходит во мне. Не знаю, как это сделать. Дай разумения, сил. Видишь, насколько я слаб.
Слабость и в самом деле охватывает меня. То ли от недосыпа, то ли от постоянного напряжения. Ложусь на застланную кровать, распрямляю спину. По белёному потолку зыбко колеблются тени листвы. Зыбко, уже сквозь дремоту, возникает мысль: «Сюжетом должно стать само это путешествие». Не забыть бы, когда проснусь…
Стук в дверь. Вскакиваю. Неужели вернулись наши? Бросаю взгляд на часы — половина пятого! Сколько же я проспал?
— Входите!
Он входит и почему‑то запирает за собой дверь на ключ. Сейчас отец Бернар не в сутане. На нём обычный серый костюм.
— Ждал вас. Начал беспокоиться. Позвольте я сяду?
— Ну конечно. Меня предупредили, позорно проспал.
Он не даёт помочь, сам с трудом разворачивает стул спинкой к секретеру, усаживается.
— Садитесь тоже. Хочу видеть ваши глаза. Я должен вам исповедоваться.
В изумлении опускаюсь на стул напротив отца Бернара.
Он осеняет себя крестным знамением. Рука жёлтая, как старый пергамент, лицо жёлтое. Голубые глаза смотрят прямо на меня.
— Отец Бернар, кто я такой, чтоб вы исповедовались мне? Я обыкновенный человек. Вы же видите. У меня самого к вам столько вопросов…
— Не надо волноваться. Вы ведь курите? Закурите.
Он ждёт, пока я дрожащими руками достаю из чемодана блок «Мальборо», вынимаю пачку сигарет, закуриваю.
— Не волнуйтесь. Со смирением прошу вас выслушать мою исповедь. Вам немного не по себе. Но выслушайте старого человека, — он проводит ладонью по короткой шкиперской бородке, грустно улыбается. — В этом году в ноябре месяце мне исполнилось бы восемьдесят лет. Однако, у меня рак. Плохой рак. Поджелудочной железы. Завтра, когда вы поедете назад в Москву, меня возьмут на операцию. Так решил консилиум. Для меня счастливый шанс, что вы сейчас тут.
— Отец Бернар, дорогой, простите за тупость! Понял. Вы прочли мои книги и хотите, чтоб я вылечил вас? Готов попробовать, готов сделать всё, что угодно. Если смогу…
— Не торопитесь, — он с усмешкой покачивает головой. — По слабости человеческой однажды я подумал об этом. Подумал — а вдруг? Теперь
поздно. Не нужно. Удивлен, почему Господь раньше не призвал меня.
— Зачем же тогда ложиться на операцию, да ещё такую тяжёлую? У вас ведь разрушена печень, метастазы?
— Это так. Правда. Но я нахожусь в подчинении у своего духовника. Он сказал, если консилиум будет настаивать на операции, надо соглашаться.
— Что ж, может быть, консилиум прав. Как вы говорите — «а вдруг»?
— Не будем больше про это. Не затем я у вас. Сейчас дам пепельницу.
Он поднимается, идёт к стенному шкафу. Извлекает из него кофейное блюдечко, подаёт, и я вдруг понимаю, что живу в его комнате, что отец Бернар предоставил мне свою келью.
Он снова усаживается передо мной, взглядывает отчуждённо, испытующе.
— Утром в церкви, на мой вопрос вы подтвердили, что вы — еврей. Ведь так?
— Чистокровный. Стопроцентный. Какое это имеет значение, отец Бернар? В чём дело?
— В том, что я — офицер СС германского вермахта. Мое прежнее имя — Отто фон Штауфеберг. У вас в России, а также в Белоруссии я убивал евреев и пленных партизан.
— Сами? Вот этими руками?
— Отдавал приказы солдатам. Это больше, чем сам. На моих чистых руках всегда были перчатки. Когда мы вторглись в СССР, мне было двадцать пять лет. Сколько было вам?
— Неважно! Я был маленьким мальчиком. Если б попался к вам в руки тогда, вы бы убили меня, мою маму. Повезло.
Он спокойно сидит, прикрыв глаза морщинистыми веками. Отвратительный; как иссохшее чучело ящерицы.
…Что мне делать? Ты слышишь меня? Кровь кипит в жилах. Скажи, что делать? Не могу же я выгнать его из его же кельи! Замаскировался, пристроился к церкви, доживает тут, во Франции. Решил напоследок, перед тем, как сдохнуть, получить от меня, еврея из России, прощение. Чтобы умереть с комфортом.
Читать дальше