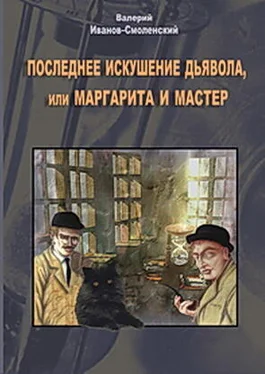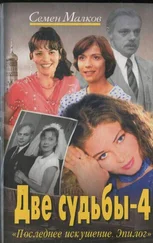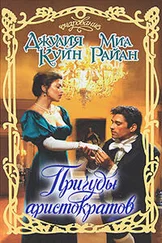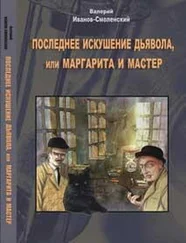— К Иерусалиму со всех сторон движутся толпы людей, если они захотят освободить арестованного….
— Я должен его допросить, — твердый голос наместника напоминал разящий короткий удар римского меча.
— Но, неужели игемону недостаточно приговора Синедриона….
— Вели доставить его сюда и передать центуриону у главного входа, — прокуратор не колебался.
Взгляд его был крайне неприветливым и от него хотелось уклониться, как от брошенного копья.
Связный рев толпы затих, лишь отдельные крики долетали до окон дворца.
— Он, как будто руководит своими соплеменниками отсюда, — поразился прокуратор, а вслух сказал, — ты можешь идти — я сообщу тебе о своем решении позже.
Оставшись один, Пилат достал из-под тоги висевшую на простой льняной нитке серебряную буллу и достал из нее амулет, подаренный ему отцом, в тот день, когда он впервые взял в руки меч.
— Помогите же мне боги, — прошептал он, вглядываясь в выполненное из красноватого золота изображение головы ящерицы, сверкнувшее маленькими рубинами, вставленными вместо глаз.
1.10. Понтий Пилат. Pereat mundus, vivat justicia. [9] Пусть гибнет мир, да здравствует справедливость (лат.)
Прокуратор подошел к окну и посмотрел на площадь, заполненную людьми. Выкриков и рева больше не было, лишь глухой ропот пронесся по толпе, заметившей его появление. Он окинул стоящих внизу презрительным взглядом.
Нечистая небрежная одежда, лохматые засаленные бороды, обмазанные жиром косички, тысячи лукавых и злобных, навыкате, глаз — наместник с отвращением сплюнул в мраморную урну стоящую сбоку.
— Рим, — единственная мысль, которая владела его душой уже пятый год, — возвратиться в столицу империи любой ценой….
Услышав шум шагов, Пилат обернулся — центурион ввел арестованного через другую дверь и, следовательно, он был доставлен не через вход, ведущий во дворец с площади. Предусмотрительность Каиафы была неудивительна, судя по доносящимся крикам, задержанного могли не довести живым через разъяренную, беснующуюся толпу.
Он не стал садиться в кресло, а подошел и остановился в двух шагах от пришедших, с интересом вглядываясь в бесстрастное неподвижное лицо невысокого худощавого человека лет тридцати.
Пленник был одет в аккуратную белую хламиду, на греческий манер, отороченную серой окантовкой с простым узором, застегнутую на правом плече, коричневатого камня, фибулой с изображением пальмовой ветви. Никаких других украшений на одежде и теле не было. Ноги его были босы.
Волосы, цвета спелого ореха, извиваясь колечками, в беспорядке спадали на плечи, разделенные посередине, едва заметным спутанным пробором. Лицо, слегка бронзоватого оттенка, свидетельствующего о частом нахождении под палящим солнцем, хранило спокойное и отчужденное выражение. Высокий лоб с двумя продольными неглубокими морщинами слегка нависал над коричневатого цвета, скорее карими, блестящими глазами. Довольно крупный нос имел более римские, нежели иудейские очертания. Левая щека имела явственно красноватый цвет и была поцарапана, очевидно, храня следы нанесенного по ней удара.
Небольшие выразительные губы почти скрывала курчавящаяся густая бородка, сросшаяся с усами, также разделенная посередине и того же цвета, что и волосы на голове, разве, чуть рыжеватее и темнее.
Ничего, особо примечательного, в его облике прокуратор не усмотрел. Его можно было принять и за грека, и за римлянина, и за иудея.
Этот человек дерзнул поднять голову против всесильного Рима?
— Ты можешь идти на свой пост, — сказал он центуриону и попытался заглянуть в глаза арестованного.
— Чем досадил ты им?
— Слова твои следует обратить к ним.
— Правда ли, что ты делал чудеса?
— Не я делал, но Бог.
— В какого бога ты веришь? Он у тебя один?
— Вера — это надежда. Разве запрещено надеяться? — уклонился от прямого ответа задержанный.
— Для чего ты пришел в Иерусалим?
— Я принес огонь, который очистит этот мир.
— От римлян?
— Нет. От нечестивцев, беспутных и бесчестных людей. И потом на выжженной и очищенной земле я воздвигну новый Иерусалим.
— Ты царь?
Худощавый человек поднял большие влажные глаза и глухо произнес, — царство мое — не от мира сего.
— Где же царство твое? — в голосе прокуратора прозвучала скрытая насмешка, — за пределами империи великого Тиберия?
— Царство мое есть истина, — арестованный не принял иронии, — и я пришел в этот мир, чтобы провозгласить ее.
Читать дальше