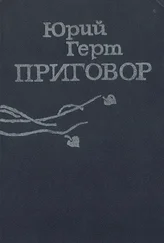— Не нравится мне эта история, — сказал Сергей.
— Чему уж тут нравиться… — пробормотал Спиридонов.
— Я в другом смысле, — сказал Сергей.
— Не накручивайте, — сердито возразил ему Карцев. — Чего в жизни не случается. — Он снял очки, вынул платок и вытер блестевшие, в липкой испарине, подглазья.
— Все равно, — Сергей зажегся. — Как это можно: целить в бутылку, а попасть в человека? — Он вскочил, с грохотом задвинул ногой табуретку под стол. — Вы это себе представляете?..
Он вышел на середину комнаты и сделал жест, которым вскидывают ружье, ловя мушку прищуренным правым глазом. Воображаемый ствол уперся в окно.
— А теперь объясните, как это получилось? И кем… Я уж не знаю, кем надо быть, чтобы лезть прямо под пулю?..
— Да нет, отчего же… — угрюмо усмехнулся Спиридонов.
Подойдя к Сергею, он изменил положение его рук таким образом, что правая, как бы сжимающая шейку ложа, оказалась на бедре, а левая, обхватившая цевье, на уровне груди.
— Вот в такой позиции ты и стоишь, готовишься, поджидаешь, пока бутылку на камень или там бугорок поставят… А патрон уже в стволе, а палец на спусковом крючке… И тут вдруг я — рядом…
Он внезапно вскинул руку, как бы поднося ко рту невидимую сигарету, и при этом толкнул — снизу вверх — левую руку Сергея.
— Чпок! — выстрелил Спиридонов губами. — Вот так это бывает, Сергуня…
Сергей обескураженно моргал.
— А ну еще раз…
Спиридонов повторил движение.
— Чпок!.. Был человек — и нет человека!..
Он постоял немного, покачиваясь в задумчивости с пятки на носок, и вернулся на прежнее место, подле Карцева.
— Все равно, — упрямо возразил Сергей. — А ружье? Откуда оно взялось?.. Ведь согласитесь, как-то странно… — Не закончив, он с досадой махнул рукой. — Я в редакцию, — сказал он, наверное, первое, что пришло ему в голову. Бездействие тяготило его, было невыносимо. — Авось что-нибудь выясню… Вы не хотите? — он исподлобья взглянул на Феликса.
Не дождавшись ответа, Сергей решительно щелкнул массивной металлической бляхой, туго затянул ремень и вышел.
Пожалуй, надо было отправиться с ним… Но Феликс не мог преодолеть тоскливого чувства, что любые детали, подробности, уже известные или те, которые предстояло узнать, не в состоянии ничего переменить, переиначить в том, что случилось. И когда после ухода Сергея в комнате повисла, с каждой минутой уплотняясь, никем не нарушаемая тишина, он почувствовал еще и то, что возвращался сюда, все они возвращались с неясной надеждой — что-то исправить, изменить… Они опоздали… И в этом была их вина, которую тоже нельзя ни исправить, ни искупить, и вина для каждого — хотя в этом никто бы не признался — не менее тяжелая, чем смерть Темирова, и, может быть, еще тяжелей…
Возможно, он осознал это не сразу, но чувство, которое тогда у него возникло, придавало в этот день всему еще и второй, особенный смысл.
В доме у Темирова, куда вскоре отправились они все, исключая Гронского, которого уговорили остаться и отдохнуть, их встретила в дверях Айгуль. Она успела переодеться. На ней было черное платье, голову стягивала черная косынка. Должно быть, поэтому лицо ее казалось особенно бледным. Она сказала, что Темиров еще в больнице, в морге (она так и сказала, сухо и твердо — «Темиров»), и провела внутрь дома.
В передней комнатке, такой тесной, что они, войдя, сразу заполнили ее целиком, на низком крашеном сундуке сидело несколько старух, и между ними мать Темирова. Она не плакала, не утирала глаз кончиком платка, просто сидела, глядя прямо перед собой подернутыми белесым туманом зрачками. Руки ее лежали на коленях, маленькие, сморщенные, похожие на птичьи лапки.
Айгуль, склонясь, тихо сказала ей несколько слов, и та в ответ едва заметно кивнула, продолжая смотреть перед собой сосредоточенным, ко всему безучастным взглядом.
Они в замешательстве стояли перед ней, как обычно в подобных случаях, не зная, что надо сделать или сказать, и зная, что по крайней мере что-то сказать необходимо. Между тем из соседней комнаты, дверь в которую была распахнута настежь, слышались приглушенные голоса, оттуда уже вынесли стол и еще какую-то мебель и на свежевымытом полу, еще не просохшем от воды, расстилали широкий, от стены до стены, ковер.
Вдруг Спиридонов, стоявший позади всех, протолкнулся вперед и опустился на одно колено. Губы его коснулись маленькой, сморщенной руки. Движение это, достаточно театральное само по себе, здесь не выглядело театральным. У Феликса сдавило горло. Вслед за Спиридоновым он склонился над сухонькой коричневой ручкой и, ни на кого не глядя, вышел во двор.
Читать дальше