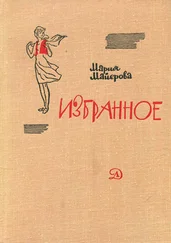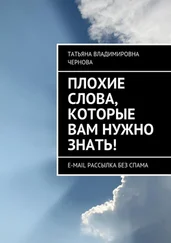Завтра мы с Тимофеем идем на рыбную ловлю. Почти каждый день я повадился либо охотиться, либо рыбачить. В этом способе добывания пищи, древнем, извечном, я нашел для себя необъяснимое удовлетворение, хотя делаю это совсем не ради провианта — весь улов я обычно отдаю детям. Меня привлекает другое. Влажная, бьющаяся в судке рыба, их трогательные круглые рты, трепещущие жабры — все это оставляет чувство прикосновения к некой сущности бытия, самой его природе. Нет, мне решительно хотелось бы увидеть здесь наших соратников. Левушка наверняка занялся бы берестяным плетением, а Коба стал снова писать стихи.
Ничего теоретического, умственного в голову совершенно не идет. «Эмпириокритицизм» застрял на первой же главе. Пробовал отписать замечание товарищу Либкнехту о его последнем выступлении на съезде немецких социал-демократов — и, веришь ли, не смог, точнее, не захотел. Бросил прямо на третьей строчке. Да и ну его к лешему, Либкнехта! Стоит мне только вдохнуть полную грудь этого осеннего, пропитанного кедровой смолой воздуха, как тут же тянет идти куда глаза глядят, идти долго, не разбирая дороги и не оборачиваясь. Или наоборот — запахнуться, усесться на скамью и безотрывно смотреть на пламя в печке. Удивительно, как…»
Володя отложил перо и снова прошелся по комнате. После вчерашней охоты ноги ныли, на левом мизинце вздулась мозоль. Шутка ли, двадцать верст на ногах? Но и Тимофей, обычно строгий к политическому ссыльному, под конец смягчился. «Привал, барин. Чуток осталось, дотемна успеем».
За окном темень, дождливый сырой шорох. В соседней избе погас свет. Тихо шипят в печи последние угли. Самовар остыл, надо бы разогреть.
Почему-то вспомнился каток в Летнем саду, неуверенная на льду Надя, укутанная в персидскую шаль с кистями. Как трепетно качались ее расставленные в сторону руки, ученически-робко скользили вперед нестойкие коньки! А он быстро подкатывался к ней, хватал за талию, увлекал за собой. Надя ахала, цеплялась за руки, смешно падала. Вальсы духового оркестра мешались в воздухе с ароматом ванильных булочек. И все было напрасно, напрасно. Почему же не решился объясниться? Обманывал себя, обманывал ее. Прикрывался идеями борьбы, рабочего движения, с головой уходил в работу, прятался. Каждый день выступал на сходках, ночами писал. Зачем?
«…Жду тебя, Наденька, с невыразимым нетерпением. Ужасно страдаю оттого, что тебе не удастся приехать до зимы. Как и прежде, жизнь нас разлучает. Но не волнуйся, мы переживем и это. Придет весна, с рек сойдет лед, и одно из здешних пароходообразных суденышек привезет тебя ко мне. Я уже вижу, как ты осмотришься в комнате, как развесишь свои вещи, поставишь на стол обещанную тобой лампу с зеленым абажуром, всюду положишь кружевные Анечкины салфетки. Кстати, как она там? Кланяйся ей от меня. Тебе здесь понравится, я уверен. Во всей этой дикости, оторванности от людей и общества есть некое невыразимое очарование. Я чувствую, что и сам становлюсь другим, как будто с детства захватившее меня и столько лет державшее в плену наваждение отпускает, проходит, растворяется, как лесной туман. Все, что мы делали, наши споры, сходки, кружки, борьба, — все теперь мне иногда кажется мелким, надуманным. Какой к черту в этой стране может быть социализм? В этом океане сонного патриархального самодурства с редкими островками городов и ниточками железных дорог? Какая пролетарская революция? Кому это нужно? Иногда приходит крамольная мысль, что, кроме нас самих, пожалуй, и никому. И вот так пройдет вся жизнь: в бесплодных дискуссиях, доказательствах, спорах, съездах. Нет, не хочу. Все равно лет через пятьдесят или сто вместо пролетарской революции случится тот самый бессмысленный русский бунт, зальет все, от края до края, красным; тысячами, без разбора, покосит правых и виноватых. А потом снова — в ярмо. И так еще сто лет. Что мы, в сущности, знаем о своем народе? Теперь мне кажется, что почти ничего.
Писать я стараюсь каждый день, но, повторюсь, безо всякого успеха. Даже писем добрый десяток лежит без ответа. А я вместо этого снова пишу тебе. Наденька, сердце мое! Приезжай как можно скорее. Я спрашивал, плавание по рекам в здешних краях открывается в мае. Я уверен, что здесь у нас все наладится, здесь мы с тобой станем, наконец, мужем и женой, а все уродливое, болезненно-немощное, грязное, все это мы оставим в прошлом. Прости меня за прежнее: за робость, ложь, косноязычие, за все страдания, что я тебе причинил. Теперь я чувствую в себе силы перебороть себя, еще раз начать все сначала. Мы будем вместе с тобой трудиться, выучимся ждать, станем спокойными и упрямыми. Своими руками обустроим нашу нехитрую жизнь. Вместе дождемся скупой радостной телеграммы об освобождении, вернемся в Россию. Поселимся где-нибудь в глубинке, так как въезд в столицы мне теперь закрыт надолго, поступим преподавать в гимназию или служить по земской части. Ничего, совершенно ничего продуктивного в России иначе сделать нельзя. Ничего у нас нельзя постепенно переделать, улучшить. Можно только до основания разрушить, а затем… А затем — непонятно. Мрак и пустота. Так лучше ничего и не трогать, жить для себя, для своих близких, не делать зла, помогать тем, кто рядом. Я только сейчас понял, насколько это верно. Тысячу раз верно! А все, что мы делали раньше, — одно только больное суетливое пустословие. Замещение других, более важных человеческих ценностей, которыми многие из нас оказались обделены. Если не хочешь жить в России, уедем за границу. В Швейцарию, например. Я займусь журналистикой, буду писать какую-нибудь чушь в колонку местных происшествий. Может быть, даже попробую взяться за роман. Иногда мне хочется именно этого: окунувшись вглубь, в самый омут этой страны, потом разом выплеснуться наружу, оказаться вне, посмотреть на Россию со стороны, «из прекрасного далека» увидеть ее не у себя под ногами, а в подзорную трубу, в телескоп, чтобы рассмотреть не только мерзость и грязь, но, может быть, и свет, и…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу