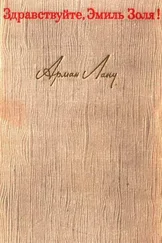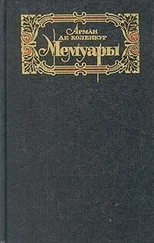Рамки из черного дерева, сверкающие люстры, старые пожелтевшие книги — обломки жизни буржуа конца девятнадцатого века, церковная утварь, растения, высушенные много лет тому назад, канделябры, веера, странной формы бутылки, китайские вазы, орифламмы, керамика, часы в виде скорчившей рожу саламандры — плод безумной фантазии, — каменные щипцы, репсовая драпировка, свеча, маленькие кораблики, яванские фарфоровые фигурки, гротескные Венеры… Распластанные лягушки, — не поймешь, то ли лягушка, то ли мандрагора.
Это тоже был мир Энсора, такой же, как на его полотнах, только не подправленный кистью художника, а созданный живым воображением человека, спрятавшегося в свою скорлупу и с усердием паука собирающего все, что дает земля и море, от раковин и попугаев, которых носят на плече словоохотливые моряки с проколотыми ушами, до всякого карнавального мусора, включая скелеты, к которым мосье Джеймс, воспринимавший явления жизни с чисто английским юмором, питал, как все фламандцы, особое пристрастие.
Меж тем Август вошел во вкус: нисколько не смущаясь тем, что гости молчат, он продолжал разглагольствовать:
— Джеймс Энсор, родившийся тринадцатого апреля тысяча восемьсот шестидесятого года и умерший девятнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок девятого, особенно любил…
Чучела птиц, кружево листьев, настолько истонченных временем, что от них остались лишь одни прожилки, старинные фонари, выпустившая ядовитые шипы китайская рыбина, розовая и пузатая.
— Сейчас вы видите морского дьявола, — бубнил Август. — Он очень дорожил морским дьяволом…
Картин было мало: большая их часть осела в музеях Антверпена и Брюсселя, в музеях других стран, — но и этого было достаточно: все та же суть открывалась здесь, все та же магическая сила, подчинившая себе художника.
Было много эстампов, и на них маски, маски. Голова, оторванная от туловища, — просто голова, ничего больше; ангелы-каратели в развевающихся одеждах, верхом на косматых жеребцах; злые духи, помыкающие художником; маги-ветродувы; толстомордые и толстозадые колдуньи; спящий человек, которому снятся кошмары; грязный нищий, вылизывающий свои лохмотья; пожиратели устриц; фонарщики; посиневшие от холода старые гетеры, кривляющиеся ряженые, пузатые скаты, золотари, процессии, насекомые с человечьими головами — мужскими и женскими; повара, предлагающие посетителям с моноклями рыбу с головой человека; всадники, осаждающие некий нереальный город; солдатня, грабящая другой нереальный город; добрые и злые судьи, застывшие в недоумении перед останками человека; ангелы-мятежники, мечущие молнии; печальный Христос и танцовщики-экорше; бельгийские солдаты маски, маски, маски…
Энсор не уставал отливать действительность в новые, более выразительные формы; великолепие его мастерства, равно как и Одилона Редона и Гюстава Моро, вызвало к жизни ярко засиявший сюрреализм, перебросивший мостик от символизма к великим «сновидцам», которым еще предстояло появиться на свет.
Из дому веяло холодом, но не влажным, морским, а сырым холодом кладбища, откуда доносится безмолвный вопль умерших.
Палитра художника, где в несколько слоев лежал густой коралл, предлагала также целую гамму белых тонов: серовато-белый — тон зимнего неба, белый цвет снега, перламутра, женской кожи, брюшка судака, белый с оттенком клейстера и яичного белка. А вокруг палитры кружился хоровод мертвых осьминогов, женских чучел, сюда попала даже шляпка с цветами, которой Энсор любил украшать свои модели и маски, а иногда и самого себя. Отражая в своем холодном стекле всю мастерскую, болтался в воздухе унаследованный от старых мастеровых волшебный фонарь — символ микрокосма, отказанный алхимиками художнику, проникшему в еще не изведанные глубины подсознания.
А рядом — откровенно мертвая голова.
Все вместе производило унылое впечатление, которое не могли рассеять слабые всплески веселья.
— Мосье Джеймс был очень веселым, — мрачно проговорил Август.
Он показал фотографию могилы Энсора и его ужасную картину, где художник изобразил самого себя в тысяча девятьсот шестидесятом году столетним стариком: полуразложившееся тело, вместо бороды — жалкие клочья — запах тлена и скрытая издевка.
— Да, он был очень веселый человек, — повторил Август и, проковыляв к окну, отдернул пурпурно-красные занавески; на миг показалось, что бородатый барон Энсор с розовой лентой в волосах и в маске, словно воскреснув из мертвых, стал возле окна и любуется шествием ряженых по Фландрской улице, вслушивается в клики Мертвых крыс и приветствует идущие со знаменами орфеоны, радуясь этому наивному карнавалу. Август, тоже в маске, стоит рядом.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)