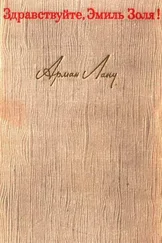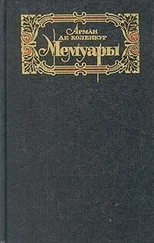Август жужжал и жужжал, как большой и неуклюжий майский жук, старательно объясняя своим спутникам каждую картину. Но они почти не слышали его низкого, по-крестьянски степенного, из-за акцента очень колоритного голоса: все, что они видели, волновало их больше, нежели торжественные разглагольствования живого свидетеля прошлых времен. Во всех комнатах четырех этажей, как и в витрине, был выставлен старый хлам, однако этот хлам был расположен в строгом, «музейном» порядке и, должно быть, представлял собой впечатляющее зрелище в эпоху, когда жил художник, ясновидец и злой насмешник. Два лебедя навечно застыли над дверьми, образуя как бы живой герб. Из прозрачной темноты выступали маски, любимые модели Энсора, под рукой которого живая модель становилась застывшей маской, а маска неожиданно оживала.
Перед глазами мелькали лысые головы и крючковатые носы; сладострастные привратницы; хитровато ухмыляющиеся стряпчие и безумные весталки; картины с изображением семи смертных грехов; подозрительного вида лекаря и сомнамбулические кухарки, не внушающие ужаса, но и не вызывающие смеха. Эти корчи жизни, доказательство страха и растерянности перед ней. Проститутки, дергающиеся клоуны, головы мертвецов, играющих на кларнете, скелеты, подравшиеся из-за селедки…
Мужчины медленно шли по сверкающему паркету, натертому так старательно, что в нем отражались туфли; тени скользили следом за ними, не рассеиваясь под ярким светом ламп.
Обитель художника принадлежала тому же миру, что и Марьякерке, и обнаруживала во всей ее вопиющей очевидности правду безумия и гения, слившихся воедино. Маски, разбросанные среди вышитых подушек на козетках, среди дорогих кашемировых тканей, казались слепками с безумных жителей Марьякерке и неумолимо вновь и вновь вызывали в памяти образы обитателей этого города.
Оливье и Робер могли видеть теперь самое нутро раковины-лавки. Они долго стояли у картины, на которую обратил их внимание Август; там были изображены две сирены в рыбьей чешуе, явившиеся не то из мира сказок, не то из музея балаганных поделок на потребу толпы и неизвестно почему обосновавшиеся здесь.
— Это сирены Остенде, — сказал Оливье. — Если б ты побыл в этих краях подольше, то смог бы увидеть такую сирену где-нибудь в деревне, на доме рыбака. Как-то в вечер равноденствия взмолилась одна из них, стала просить своего хозяина отпустить ее в воду. Он долго раздумывал, но в конце концов бросил ее в море. И деревянная сирена поплыла, извиваясь всем телом; иногда, с высокой волной, она приплывала к своему хозяину и смотрела, как он ловит рыбу…
Август одобрительно кивал головой.
— Мосье Энсор очень любил эту сказку.
— Но в один прекрасный день, — подхватил Робер, глядя перед собой широко раскрытыми, потемневшими глазами, — сирена не приплыла к своему рыбаку — она отправилась на север, на свидание к робкому юноше, а звали того юношу Ганс Христиан Андерсен. Я знаю эту сирену, она сидит на камне близ Копенгагена.
Август замер. Должно быть, в этом старом крабе, пропахшем нюхательным табаком и мятою из-за таблеток от кашля, жила наивная душа ребенка. Оливье рассмеялся.
— Ну теперь я начинаю понимать, — сказал он, — почему иногда ты делаешь хорошие передачи! Иногда!
Реплика Оливье моментально отрезвила Робера, и Август счел возможным продолжить рассказ о музее. Неторопливо, но с большой охотою, подчас сам умиляясь своим воспоминаниям, он воссоздавал портрет Энсора, искусно, как все гиды, нанизывая слова друг на друга. Он с гордостью показывал свой собственный портрет, но говорил при этом о себе в третьем лице — это была его излюбленная манера: «Портрет Августа тысяча девятьсот третьего года».
Больше полувека назад… Но уже тогда в молодом Августе явно проглядывали черты теперешнего! Здесь, как и в Марьякерке, как у Иеронима Босха, время вело особый счет. Энсоровский калейдоскоп все крутился и крутился, показывая экзотических морских звезд бесстыже розового, чувственного цвета, останавливаясь на шутовских зарисовках пляжа тысяча восемьсот восьмидесятого года. По песку катятся кабины, увлекая к кромке волн пышнотелых голых купальщиц; на них смотрят, кто равнодушно-снисходительно, кто плутовато, кто с завистью, упакованные, как монашки, обывательницы с осиными талиями над торчащими задами; престарелые красавцы в цилиндрах и рединготах или макфарлане и соломенных шляпах провожают их полными восхищения похотливыми взглядами; попыхивая трубками, оживленно переговариваются волосатые матросы.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)