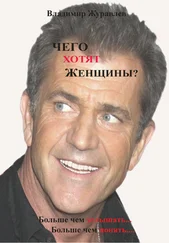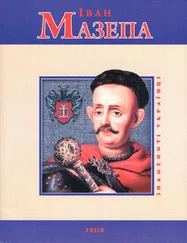— Проходите… — гостеприимно, но почему-то шепотом предложил Хабибуллин.
Полежаев и Вилена окинули помещение долгим удивленным взглядом, причем Полежаев нахмурился, а Вилена округлила глаза, что ей очень шло.
Вдоль левой стены простирался разделочный стол из нержавеющего материала. На нем лежали тяжелые дубовые доски, сплошь изрезанные, в одну из досок был воткнут огромный топор.
В потолке над разделочным столом висели крюки, а на белой кафельной стене красовались наборы ножей на магнитной планке.
Взгляд Полежаева привлекло также небольшое приспособление, напоминающее миниатюрный подъемный кран. С потолка на крученых, как телефонный провод, прозрачных трубках с темной сердцевинной свисали резаки, похожие на машинки для стрижки волос.
Чувствовалось, что все пространство за разделочным столом завалено продуктами производства. Что за производство могло размещаться в палате больного, было решительно неясно.
Хабибуллин перехватил взгляд своих гостей и сокрушенно покачал плечами.
— Ничего не поделаешь, — грустно сказал он. — Приходится адаптироваться. Зато морозильная камера очень даже пригождается.
Он кивнул в сторону еще одной двери, которая имела круглое, как иллюминатор, заиндевевшее оконце.
— Постарайтесь просто не обращать внимания, — посоветовал он. — А Степан Афанасьевич вон там… Только осторожно, кафель очень скользкий.
Полежаев и Вилена проследовали за доктором и оказались в изголовье больничной постели. Цоканье каблучков Вилены Анатольевны в этом странноватом помещении звучало гулко и отвратительно.
Степан неподвижно лежал на больничной койке с руками, привязанными пластиковыми ремешками. Простыня закрывала его тело до середины живота, грудь была гладко выбрита. На глазах коматозного были надеты огромные солнцезащитные очки, в которых окружающее отражалось с предельной четкостью.
Пациент вид имел одухотворенный, кожу совсем не бледную, а розоватую, здоровую, которая лишь в некоторых местах облезла, как будто была облита прозрачным клеем, который потом сняли, но не везде, и создавал впечатление прилегшего отдохнуть человека, которого нехорошие шутники обклеили кругляшками с проводами, сунули ему кое-что в нос, нацепили кое-что другое на палец. Ощущение усиливалось из-за очков, которые не давали возможности увидеть глаза: а вдруг они раскрыты?
Во рту у пациента имелась резиновая трубка.
В изголовье и сбоку гудели и равномерно пикали сложные приборы с большими экранами, по которым сверху вниз лились зеленые полосы цифр. Что-то щелкало, пульсировало, что-то отсчитывало время.
Странное место… — подумал Полежаев. — И странный пациент. Вот только почему меня все это не удивляет?
— А почему он привязан? — все-таки поинтересовался издатель. — Он же в коме?
— У нас нехватка в сиделках, чтобы постоянно находиться при пациентах. А если он вдруг очнется ночью, то трудно предсказать, что он может с собой сделать в этом месте… — Хабибуллин красноречиво обвел помещение взглядом.
— А очки? Зачем очки?
— Пробуждение бывает внезапным. Если он очнется днем, то после многих недель, проведенных в темноте, яркий свет может причинить боль.
Вот все и объяснилось, — с облегчением промелькнуло в голове Полежаева, — точнее, почти все.
— Вот оно, капиталистическое здравоохранение! — вдруг с надрывом воскликнул Хабибуллин, и Вилена вздрогнула. — Беднягам, вот как этот, совершенно невозможно оказать квалифицированную помощь. А в платных палатах, — Хабибуллин опять перешел на шепот и кивнул головой куда-то в неопределенность, — один койко-день обходится в половину моей зарплаты. Ну, официальной, я имею в виду…
— Я так и не поняла, зачем вы нас пригласили? — спросила Вилена. Она нахмурилась и скрестила руки на груди. — Не люблю я больницы эти и когда вот так вот неподвижно лежат. Топор опять же… очень некстати!
— А я, кажется, догадываюсь… — пробурчал Полежаев.
— Позвольте, я сам объясню Вилене Николаевне. Все очень просто, вы являетесь единственными близкими людьми Степана. Вы должны дать согласие.
— Согласие? Но на что? — Вилена передернула плечами и, не отдавая себе отчета, поправила под кофточкой бюстгальтер.
— На эвтаназию, — ответил за врача Полежаев. — Он так может пролежать годами, а стоит это дорого, так ведь, доктор?
— Так. Речь идет не о согласии как таковом, а, скорее, наоборот. — Он поправил что-то в носу пациента. — Я просто хотел узнать, нет ли у вас возражений, — он сделал ударение на «возражений», — каких-нибудь веских причин, о которых я не знаю и которые остановили бы нас от этого шага. Кроме вас двоих мне просто некого спросить. Для вашего сведения: решение уже принято в принципе.
Читать дальше