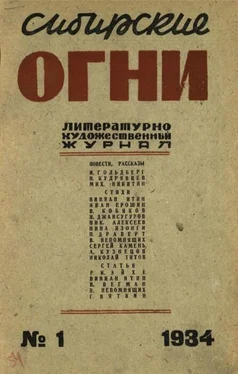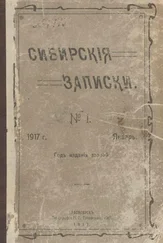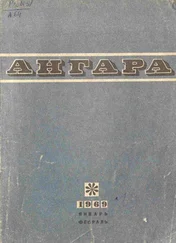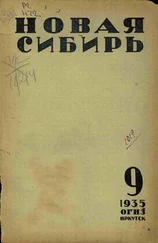— Павел на себя манит... Не сдобровать парню...
Позже обошлось все для Власа и для двух его товарищей удачно: они без помехи добрались до стана, до отряда и доставили патроны. Пашка же не вернулся. А еще позже, когда отряд вышел из засады и двинулся к линии, то в стороне, на маленькой полянке, нашли Пашку повешенным на сухостойном дереве. Пашка был обезображен. Пашку, — видно было, — долго мучили перед смертью. У Пашки на обнаженной груди была вырезана пятиконечная звезда.
Начальник отряда с горя выругался:
— Румыны проклятые! Это они вместе с карателями!.. Сволочи!
— Сволочи!.. — закипело во Власе. — Какого парня замучили!..
Не одного Пашку и не один этот случай припомнил Влас, опаленный словами Некипелова. Вся многомесячная таежная партизанская страда быстро промелькнула в его воспоминаниях, все муки, все тяготы и лишения походной жизни, все издевательства и зверства врага. Но почему-то ярче и неотвязней всего выросло в памяти изуродованное тело Пашки, обнаженная грудь его, и на ней кровавая звезда...
— Я помню! — возбужденно сказал он, отрываясь от воспоминаний, и Некипелов вздрогнул, когда услышал в его голосе непримиримую злобу. — Я, брат, все помню!
Тяжелая, гнетущая забота легла на Некипелова. Украдкой оглядев Власа, он неуверенно заметил:
— В те поры нам, Влас Егорыч, туго, ох, как туго жить довелось. Вот и объявлялись люди, кои порушенную жизнь нашу принимались нам налаживать...
— Нам?! — вскипел Влас. — Это еще надо сосчитать, кому какую жизнь хотели налаживать. Может, тебе это на-руку было, а мне, скажем, нет.
— А ты чем хуже или, к примеру, лучше меня, Влас Егорыч? Мы из одного дерева, из одной колоды вытесаны. Я да ты — оба хрестьяне. Землей живем. Стало быть в одних мыслях ходим.
Власа уязвило. Он нахмурил брови и опустил глаза.
— Как бы не так! — возразил он. — Имеется отличка. У тебя, может, мысли в одну сторону, а у меня — в другую! Ты вот эвон каким хозяином жил да не тужил, а я горб свой гнул весь век!.. Конечно, тебя прищемило, ты и нивесть что говоришь.
— А тебя не прищемило? — прищурился Некипелов.
— Меня?! — Влас слегка смутился. — Меня тронули не с того, с другого боку. Не по нраву мне стало уравнение. Что, скажу для примеру, с Васькой балахонским меня на одну меру мерять стали... Ну, против колхозов я отпорен был. Не принимаю покеда что...
— Ну одним словом, коротко говоря — прищемили тебя, — ухватился Некипелов, но потянувшись к Власу. — Раззор тебе произвели, от семьи заставили уйти...
— Я сам ушел. Сам!
— Это все едино. Через душу твою переплюнули, ты и ушел. Это все едино, что заставили, что совесть твоя тебя с места окаянного тронула... Все едино!.. И нечего тебе за нонешние порядки держаться да нонешним правителям в ножки кланяться. Православный ты, богобоязненный человек, русский, одним словом, а на поводу можешь оказаться у всякого нехристя. И ежели тебе по-совести...
— Что ты мне все совестью да совестью в глаза тычешь? — вскипел Влас, которого этот бесконечный разговор уже тяготил. — Если по-совести говорить, так я от таких слов, какие ты мне загибаешь, давно отплеваться должен бы был, а то и того хуже...
— Та-ак!? — Некипелов оперся волосатыми кулаками в стол и слегка приподнялся, словно всплыл над ним. — Та-ак! Может, доносить станешь?!
Влас покраснел, глаза его заблистали. Он вспомнил свой недавний разговор с Феклиным, и ему даже показалось, что пред ним сидит именно Феклин, злой, взъяренный и чем-то отталкивающий от себя, а не старый земляк и сосед Никанор Степаныч.
— Может, доносить хочешь? — повторил Некипелов. — Доноси! Предавай! За тридцать серебренников... Как Июда Христа! Беги...
— Оставь, Никанор Степаныч, — отодвигаясь от стола, от Некипелова, брезгливо сказал Влас. — Оставь. Твоей судьбе судьей я не стану. Ну, не пара я тебе. Это попомни... Прощай!
Некипелов сжал губы и опустил, потупил глаза. Влас быстро шагнул к дощатой двери, толкнул ее и вышел.
На улице он шумно вздохнул в себя свежий воздух.
1.
Марья долго не могла взять в толк, по какой причине и для чего в коммуне стали делить людей, как ей казалось, на разные сорта. Собрание бедноты, на котором она сама не была и о котором по деревне ползли самые невероятные и нелепые сведения, растревожило и смутило ее.
Но не одна Марья была встревожена и смущена. Нашлись многие, такие же, как и она, бывшие середняки, которые в этом небывалом для них собрании бедноты увидели для себя какую-то угрозу. А тут еще со стороны угрозу эту стали раздувать некоторые единоличники, те, которые выжидательно и тревожно посматривали на коммуну. И если до собрания слухи о нем и предположения были смутными и неясными, то теперь, назавтра после него, у досужих и легковерных крестьян, у тех из них, кто привык хватать всякую молву с налету и, не разжевав ее как следует, пускать с прикрасами дальше, нашлась горячая работа.
Читать дальше